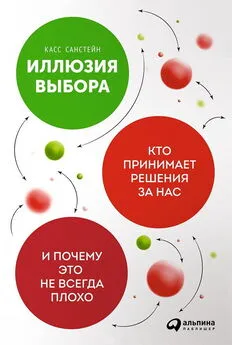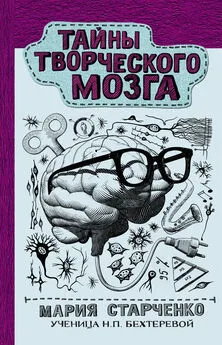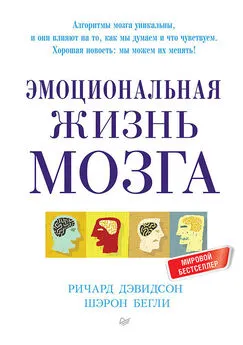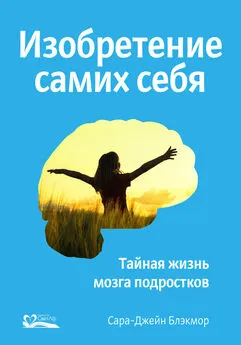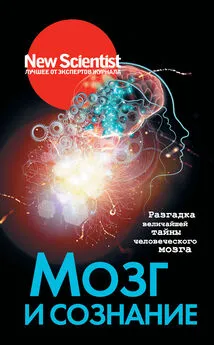Мариано Сигман - Тайная жизнь мозга. Как наш мозг думает, чувствует и принимает решения
- Название:Тайная жизнь мозга. Как наш мозг думает, чувствует и принимает решения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-097636-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариано Сигман - Тайная жизнь мозга. Как наш мозг думает, чувствует и принимает решения краткое содержание
Тайная жизнь мозга. Как наш мозг думает, чувствует и принимает решения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Представления младенцев о хорошем и дурном, справедливости и собственности, преступлении и наказании в целом сформированы, но не могут быть связно выражены из-за незрелости их лобной и префронтальной коры (пресловутой «диспетчерской вышки»). Подобно числовым и лингвистическим понятиям, багаж нравственных представлений младенца замаскирован его неспособностью выразить свое знание.
Один из простейших и самых поразительных научных экспериментов, демонстрирующих нравственные суждения младенцев, был проведен Карен Уинн с помощью деревянного кукольного театра с тремя персонажами: треугольником, квадратом и кругом. В ходе эксперимента треугольник поднимается на холм. Время от времени он отступает назад, но лишь для того, чтобы продолжить подъем. Это создает ясное впечатление, что треугольник имеет намерение (добраться до вершины) и стремится достигнуть своей цели. Разумеется, у треугольника на самом деле нет желаний или намерений, но мы непроизвольно предполагаем это и создаем повествовательное объяснение.
В середине сцены появляется квадрат и умышленно врезается в треугольник, сталкивая его вниз. С точки зрения взрослого человека, его поведение недостойно. Потом сцена проигрывается заново, но когда треугольник поднимается, появляется круг и подталкивает его вверх. Для нас круг предстает в образе благородного помощника.
Концепция хороших кругов и плохих квадратов нуждается в нарративном объяснении, которое автоматически приходит на ум взрослому человеку: с одной стороны, он приписывает каждому объекту намерение, с другой – выносит нравственные оценки на основе этих намерений.
Будучи людьми, мы приписываем намерения не только другим людям, но и растениям («подсолнечник стремится к солнцу») абстрактным общественным конструкциям («история простит мои прегрешения» или «рынок наказывает инвесторов»), теологическим сущностям («так хочет Бог») и механизмам («упрямая посудомоечная машина»). Эта способность превращать информацию в истории – животворный источник любого вымысла. Поэтому мы можем заплакать у телевизора, перед изменчивым набором крошечных пикселей на экране, или разрушать кубики в видеоигре, как будто сидим в траншее на Западном фронте во время Первой мировой войны.
В кукольном представлении Уинн есть только треугольники, круги и квадраты, но мы видим в них борьбу характеров, «плохого парня», который мешает продвижению вперед, и доброго помощника. Иными словами, взрослые люди спонтанно приписывают увиденному нравственные ценности. Способны ли шестимесячные младенцы к такому абстрактному процессу мышления? Умеют ли они спонтанно формировать нравственные проекции? Мы не можем спросить их, но делаем выводы на основе их предпочтений. Секрет науки – в постоянном поиске способов соединения того, что мы хотим узнать (в данном случае могут ли младенцы формировать нравственные ценности), с тем, что мы можем измерить (какие объекты они выбирают).
После наблюдения за тем, как один объект помогает треугольнику подняться на холм, а другой сталкивает его вниз, младенцам предлагалось выбрать одного из участников. Двадцать шесть из двадцати восьми (и двенадцать из двенадцати шестимесячных) выбрали помощника. Потом видеозаписи детей, наблюдающих сцены с помощником и противником, показали экспериментатору. На основе их мимики и выражения лица она почти всегда могла точно сказать, кого видит ребенок в этот момент – помощника или противника.
До того как начать ползать, ходить и говорить, едва научившись сидеть и есть с ложечки, шестимесячные младенцы, судя по их жестам и предпочтениям, уже могут делать выводы о намерениях, желаниях, добре и зле.
Тот, кто грабит вора…
Конечно, нравственность устроена гораздо сложнее. Мы не можем называть человека хорошим или плохим только потому, что он сделал что-то полезное. К примеру, помогать вору обычно считается недостойным поступком. Кого предпочтет младенец: человека, который помогает вору, или того, кто разоблачает его? Здесь мы вступаем на зыбкую почву происхождения морали и закона. Но и в этой мутной воде дети от девяти месяцев до года уже имеют свое мнение.
Вот эксперимент, который доказывает это. Ребенок видит ручную куклу, которая пытается поднять крышку коробки, чтобы достать игрушку. Затем появляется кукла-помощник, помогающая открыть крышку. Но в другой сцене кукла-хулиган коварно прыгает на крышку, захлопывает ее и не дает первой кукле достать игрушку. Выбирая между двумя куклами, младенцы предпочитают помощника. Но Уинн делает нечто еще более интересное: она определяет, что думают младенцы о возможности украсть у злодея, еще до того, как они узнают все эти слова.
Для этого она придумала третий акт кукольного театра, где кукла-помощник теряет мячик. В некоторых случаях это «сад расходящихся тропок» [15] «Сад расходящихся тропок» – новелла Хорхе Луиса Борхеса, парафраз многовариантности будущего ( прим. пер. ).
. Иногда на сцене появляется новый персонаж и возвращает мячик. В других случаях приходит новый персонаж, который крадет мячик и убегает. Младенцы предпочитают персонажа, который возвращает мячик.
Но самое таинственное начинается, когда вместо помощника в этих сценах присутствует кукла-хулиган, которая коварно прыгала на коробку. В этом случае младенцы изменяют свои предпочтения и симпатизируют той кукле, которая крадет мячик и убегает. Для девятимесячных детей тот, кто оставляет с носом плохого парня, приятнее того, кто ему помогает, – по крайней мере, в мире кукол, коробок и мячиков [16] …в котором мы живем ( прим. авт. ).
.
Младенцы еще не умеют говорить и координировать движения рук, чтобы схватить объект, но уже способны на нечто более сложное, чем просто судить о других по их поступкам. Они принимают в расчет контекст и прошлые события, что позволяет им сформировать весьма тонкое понятие справедливости. Такова невероятная диспропорция различных когнитивных способностей на ранних этапах развития человеческого существа.
Под знаменем своего племени
Мы, взрослые люди, не обходимся без предубеждений, когда судим о других людях. Мы не только держим в уме их историю и контекст их поступков (это нормально), но и формируем мнение о человеке, совершившем эти поступки, исходя из того, насколько он похож на нас (а это уже ненормально).
Во всех культурах людям свойственно более дружеское и сочувственное отношение к тем, кто на них похож. И наоборот, мы проявляем больше безразличия к страданиям тех, кто отличается от нас, и строже их судим. История полна примеров того, как большие группы людей поддерживали – или, в лучшем случае, не отвергали – насилие над теми, кто был не похож на них.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

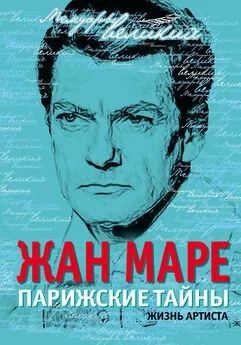
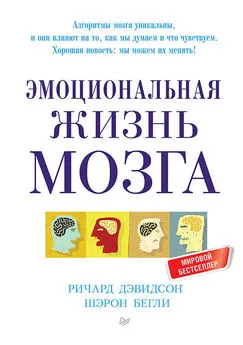
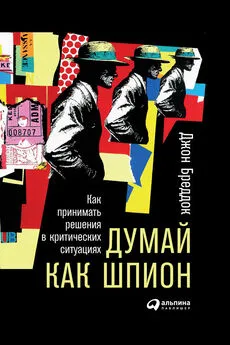
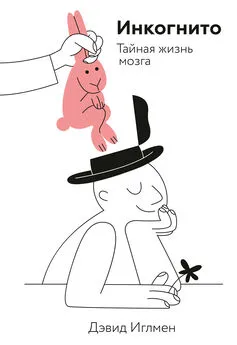
![Коллектив авторов - Мозг и сознание [Разгадка величайшей тайны человеческого мозга] [litres]](/books/1075092/kollektiv-avtorov-mozg-i-soznanie-razgadka-velicha.webp)