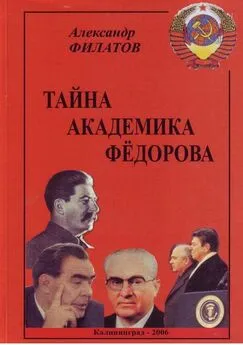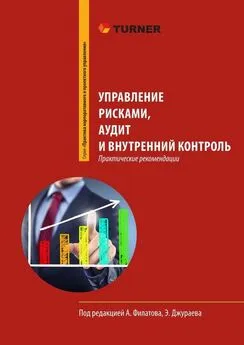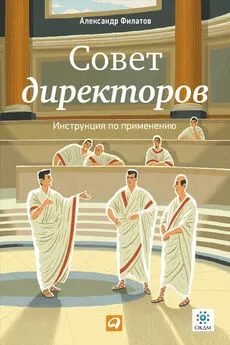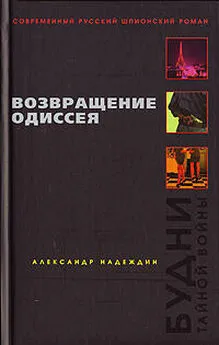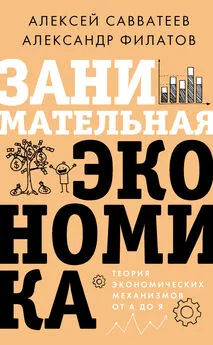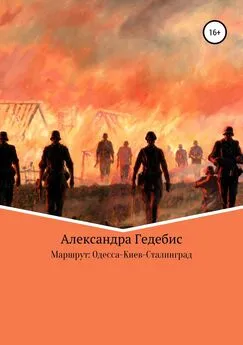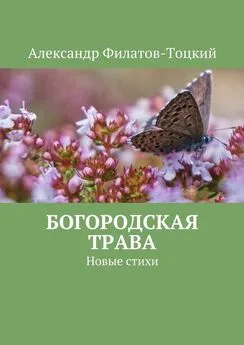Александр Филатов - Маршрут в прошлое - 2. (Будни НИИ Хронотроники.)
- Название:Маршрут в прошлое - 2. (Будни НИИ Хронотроники.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Калининград, МО Сенте. Промышленная типогнрафия Бизнес-Контакт.
- Год:2011
- Город:Калининград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Филатов - Маршрут в прошлое - 2. (Будни НИИ Хронотроники.) краткое содержание
«Будни НИИ Хронотроники» вторая книга Александра Викторовича Филатова из задуманной им трилогии «Маршрут в прошлое», которая вместе с повестями «Тайна академика Фёдорова» и «Вариант "Дельта"» отновится к жанру «альтернативной истории» и повествует о работе учёных и органов государственной безопасности СССР, которым удалоось изменить реальность, преодолеть внешние силы, спланировавшие для нашей страны "перестройку" и все последовавшие за ней трагические события. Трилогию Филатова можно также отнести к редкому жанру «фантастической публицистики». Это - девятая кнгига автора - доктора медицинских наук, дипломированного политолога, лауреата литературной премии.
Маршрут в прошлое - 2. (Будни НИИ Хронотроники.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Ясно… – пробормотал обескураженный Фёдоров и, услышав звонок внутреннего телефона на столе начмеда, опять его звавший по каким-то делам, добавил:
– Спасибо, Юра! Пойду я…
– Ты, Лёша погоди! Сейчас я смотаюсь к этой послеоперационной девчушке и мы сходим на пищеблок, пробу снимем, а то я гляжу, ты чего-то отощал немного…
– Да нет, спасибо, Юра! Я пойду…
Какое-то время Фёдоров перебивался летними „заработками“, которые получал, выступая чем-то вроде гида и переводчика у пожилых немцев, хлынувших в Калининградскую область ещё с осени 1991 года. Были у него для этого и ухоженный „Запорожец“, и отличный немецкий, и неплохие знания истории области – вернее, прежней, немецкой топонимики. Пожилые немцы неплохо платили. Но однажды, во время беседы немцев между собой у развалин какой-то церкви на севере области, под Советском, Фёдоров позволил себе вмешаться и поправить немца, неверно – проанглийски и антисоветски излагавшего историю разрушения церковушки. Поправил и тут же пожалел: в ответ последовало весьма жёсткое и унизившее Алексея прямое разъяснение, которым ему было однозначно указано, что он здесь – слуга и шофёр, что он не вправе вмешиваться в беседу своих хозяев. Всю обратную дорогу Фёдоров молчал. Отказ от разговоров со своими пассажирами-экскурсантами объяснял сложной дорожной обстановкой и своей усталостью. Впрочем, никого эти объяснения не обманули: пожилые немцы правильно поняли причину реакции Фёдорова. Очевидно, такой гид и извозчик их не устраивал, потому что запланированной немцами ранее поездки в Янтарный назавтра не состоялось. Когда Фёдоров, получив в милиции разовый пропуск на проезд к гостинице, прибыл в условленное время на место, ему сказали, что искомые им немцы с полчаса как уехали на каком-то „Мерседесе“. Вообще, с момента этого вроде бы незначительного эпизода немцев как отрезало: никто более Фёдорову не звонил, не просил никуда свозить и там переводить ни тем летом, ни в последующие вёсны и лета.
Помимо прочего всё это означало, что все эти „ностальгирайзенде“ в большей степени являются „реваншрайзендерами“ и что, занимаясь здесь разведкой, теснейшим образом связаны между собой в своём „Восточно–Прусском землячестве“, в котором отменно поставлен обмен сведениями. Впрочем, за время занятия извозом этих туристов и переводами для них Фёдоров успел завести знакомства с другими немцами, которые – будучи членами того же землячества – поддерживали с ним постоянный контакт. Эти „другие немцы“ организовали ввоз в Калининградскую область всяческого ненужного им хлама, за утилизацию которого в Германии принято платить. Платить немало. Так, однажды, наобещав в беседе с Мальчиновым, что привезут необходимые санаторию медикаменты, они действительно ввезли целую партию просроченных лекарств и изношенных зубных боров, которые расстроенный начмед, затративший уйму времени и нервов на таможне, тут же был вынужден списать. Другой раз, под новый год немцы привезли детям подарки. Это оказался изъеденный червями шоколад. Всем этим поставщикам „гуманной помощи“ (которую неграмотные журналюги, не знающие немецкого языка, упорно именовали „гуманит арной помощью“) было лишено смысла объяснять, что здесь – не страна „третьего мира“, а лишь недавно упразднённое могучее и богатое советское государство, уровень жизни в котором в целом соответствовал западному „среднему классу“, что люди здесь ещё не успели забыть, как они жили до всех этих „реформ“ и проклятой народом горбачёвской „перестройки“.
Впрочем, порой попадались и честные поставщики. С ними было просто приятно иметь дело: эти немногие правильно понимали обстановку, причины нынешнего упадка и разрушения всего и вся, искренне сочувствовали бывшим советским гражданам, везли действительно нужные медикаменты и оборудование и – невиданное для Запада дело! – даже поругивали самого Горбачёва… вместе с так называемым „воссоединением Германии“. Они чурались „Восточно–Прусского землячества“ и иногда говорили о нём весьма неприятные и тревожащие вещи. Но таких было меньшинство, которое почему-то встречалось с огромными трудностями на таможне.
Так, за всеми этими мыслями, Фёдоров доехал до Берлина. Заснуть ему удалось лишь ненадолго. Он так и не смог придумать, как ему выйти из затруднений, на которые его облёк заказчик, недодав почти две тысячи марок. „Расскажу всё Петеру, как есть, а там – будь, что будет!“ – решил Фёдоров и забылся тяжёлым, коротким сном. В Берлин прибыли спозаранку. Серое промозглое, наполненное глухим уличным шумом берлинское утро не добавило оптимизма. Достав из тайника сотенную купюру, Фёдоров быстро оделся, подхватил свою сумку, подошёл к кассе и купил за восемьдесят девять марок билет. Поезд до Миндена отходил через сорок минут. Алексей прошёл в закусочную, располагавшуюся невдалеке от макета или скульптуры, намекавшей на паровоз. Заказав сосиску, Алексей наложил из тюбика себе на картонное подобие тарелки огромную порцию безвкусной немецкой горчицы и прошёл к ближайшему стоячему столику. Он не любил чай в пакетиках – от него всегда отдавало вкусом размокшей бумаги, но другого здесь не найдёшь. Позавтракав так – стоя, невкусно и в неудобстве, Фёдоров отправился на перрон и вскоре уже сидел у окна в вагоне второго класса.
Пока добрался до Миндена, утро уже было самом в разгаре, но здесь в низине Минденского междугорья, как и частенько, стоял туман. Выйдя из вагона, Алексей прошёл к стоянке такси и уселся в жёлтый „Мерседес“, первым в очереди дожидавшимся пассажиров. Поздоровавшись с водителем, Алексей коротко назвал адрес:
– Айнкауфсцэнтэр „Цвай таузэнд“, фирма „Гротэфельд“, биттэ! (что по-немецки означало: „Торговый центр „Две тысячи“, предприятие „Гротэфельд“, пожалуйста“).
Машина, строго соблюдая правила, поехала по Миндену в соседний городок, который назывался Порта Вестфалика. Фёдоров любил эту живописную местность. На горе у выезда из Баркхаузена в Порта Вестфалику на автодорогу номер два стояла беседка – памятник императору Вильгельму, а внизу располагался камень, на котором имелась надпись: „До Кёнигсберга 937 км“ – весьма красноречивое напоминание об „отсутствии в объединённой демократической Германии реваншистских устремлений“! В самом Миндене имелся другой „памятник“. В своё время Фёдоров был очень удивлён, когда, проезжая по городу на автомобиле под каким-то массивным мостом, увидел, как по этому „мосту“ быстро движется громоздкий теплоход.
– Что это?! – воскликнул Фёдоров, не скрывая своего удивления.
– Это единственный в мире водный перекрёсток, Алексис! – не без гордости ответил сидевший тогда за рулём „Омеги–2“ Петер Кноль – знакомый Фёдорова, старожил Миндена и директор автопредприятия „Гротэфельд“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: