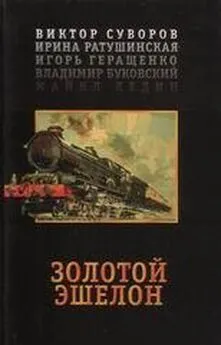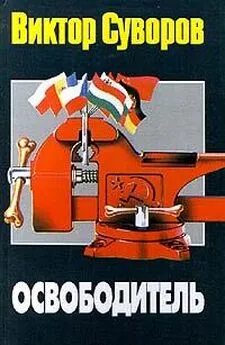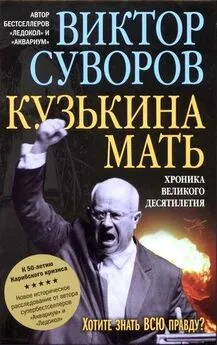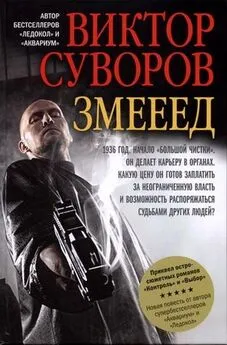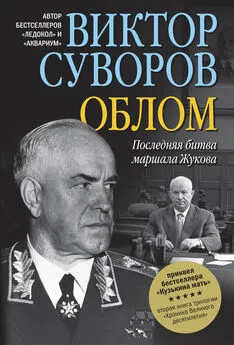Виктор Суворов - Золотой эшелон
- Название:Золотой эшелон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гудьял-Пресс
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-8026-0082-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Суворов - Золотой эшелон краткое содержание
Накануне распада СССР собрались четверо русских писателей, живших в Англии: Виктор Суворов, Ирина Ратушинская, Владимир Буковский, Игорь Геращенко, к ним присоединился англичанин-славист Майкл Ледин. Общими усилиями сочинили они веселый роман-капустник «Золотой эшелон» — про то, как пришел в Одессу эшелон с контейнером мыла, мыло украли, завертелась интрига, одно вранье взгромоздилось на другое, другое на третье, и выход остался один — свергнуть советскую власть и тем самым спрятать концы в воду…
Золотой эшелон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Да ты, Петрович, может, сам из XII века сбежал? — ахнул Санек, когда Петрович впервые выдал ему серию булатных клинков.
Делано было добросовестно, по-старому. Чистое железо рубилось не слишком мелко, и раз положены были угли из кожуры граната — то именно такими углями это все пересыпалось, а потом уже шло в муфель. По поверхности каждого куска образовывалась высокоуглеродистая сталь — твердая и более плавкая, чем мягкое железо сердцевины. Каждый кусок был сплавом твердости и эластичности. Потому булатный клинок рубил любой встречный, но им и опоясаться можно было без риска сломать — если, конечно, хватало длины.
Отковывал Петрович на пневматическом молоте. Зарождающийся в желтом пламени булат он мял, скручивал, раскатывал в тонкий лист, сминал гармошкой и ковал снова. От того и получался муар на клинке, а старинные мастера еще ухитрялись выводить структуру в рисунок. По легендам, и птицы бывали на тех клинках, и всадники — но таких Петрович никогда не видел и сомневался, правда ли. Он знал, что когда-нибудь и сам попытается, но теперь было не время. Из того времени, что было теперь, Петрович охотно сбежал бы в тот самый XII век.
Калили они вместе с Лехой, в воздушном потоке. Только вместо лихого коня, на котором скакал юный подмастерье, размахивая по ветру малиновым от жара клинком — был прозаический вентилятор. К немалому огорчению Лехи.
Пора было, однако, идти в мастерскую.
— Ну что, готово? — спросил он парнишку, вставшего ему навстречу.
— Форма готова. А какой век задувать будем, батя?
— Эх, Леха, третий год учу делу, а уму-разуму — семнадцатый… А ты до сих пор такие вещи спрашиваешь. Как малец, ей-богу.
Он разложил на столе фотографии.
— Ты под какой стиль модель лепил?
— Вот под этот, — Леха ткнул пальцем в крайний левый снимок.
— Ну и какой это век?
— Пятнадцатый, — просопел Леха.
— Вот его и задувай.
Неделю тому назад Петровичу заказали японскую бронзовую вазу, и он впервые поручил всю работу от начала и до конца сыну. И видел, что не ошибся, но радоваться вслух считал излишним.
В прошлом веке возраст шедевров эксперты определяли по стилю, по трещинам в краске или дереве, патине на поверхности металла — этак на глазок. Искусственно состарить можно все, что угодно, но нельзя сказать, что прошлый век был таким уж золотым для мастеров антикварных подделок. Иные эксперты обладали не только глазом, но и нюхом — и с ним было не сладить.
Но вот двадцатый век принес углеродный анализ. По радиоактивному распаду изотопов углерода стало возможно определить возраст вещи довольно точно. Решающее слово оценки перешло от чутьистых знатоков к педантичным физикам, зачастую неспособным отличить на ощупь каррарский мрамор от египетского алебастра. Знай себе отколупывай кусочек да суй его в прибор, а уж машина выдаст возраст в цифрах. Тут-то и наступил золотой век, и первым это понял Петрович.
Он прочитал статью об углеродном анализе еще в бытность свою молодым инженером в Академии наук. Он не только любил машины, но и понимал их. Он знал, что машина выдаст любой результат, который нужен человеку, и что этим человеком будет он.
На следующий день он пошел проведать знакомого археолога, холостяка, который охотно расплатился с ним головешкой из скифского кургана за починку стиральной машины. Уже тогда Петрович увлекался литьем по выплавляемой модели.
Остаток древнего костра был растерт в порошок и задут в приготовленную к литью форму. Полученную бронзовую фигурку Петрович наладил на анализ, и результат был: шедевр IV века до Рождества Христова. Что он способен делать шедевры — Петрович и не сомневался, но продавать свои работы было позволено только одной категории лиц: членам Союза художников. Мало того, что большая часть заработка шла в карман государства. За членство надо было платить еще и верноподданностью тому же государству. Каковая верноподданность должна была периодически проявляться в работах членов союза — по мере государственной надобности. А это для Петровича было слишком. С малолетства он откуда-то знал, что душу во все века продавали одному и тому же покупателю.
Раз нельзя зарабатывать работами двадцатого века, рассудил Петрович, — обратимся к векам другим, а предки пусть не взыщут.
Он споил ведро водки лаборантам института археологии и обзавелся коллекцией почтенных головешек с возрастом от X века до Рождества Христова и до наших дней. Он сжег в печке свою написанную, но не защищенную еще диссертацию о сварке взрывом. Переселился к обрадованному до изумления свекру в подмосковную деревню Храпово, к тому времени почти обезлюдевшую. И взялся за дело.
Через три месяца коллекция американского миллиардера Харальда Пламмера пополнилась великолепно сохранившейся греческой статуэткой-светильником эпохи великих мастеров. Деньги Санек и Петрович честно поделили пополам. За пару лет к Петровичу в деревне прибилось еще несколько специалистов. Он привечал всех, умеющих что-то делать своими руками. Поладить с колхозными властями было легко: им вечно требовался ремонт техники. Потом, когда уже непонятно стало, какая где власть, — поселок продолжал процветать. Умельцы делали все, чего требовал черный рынок, — от икон до сварочных аппаратов. Только наручники и прочую дрянь Петрович наотрез отказывался производить.
Коровник, приспособленный под литейный и кузнечный цеха, выглядел заброшенной развалюхой. Это было золотое правило поселка: не вводить в соблазн возможных грабителей. Но внутри торцевой дубовый пол в желтом свете натриевых ламп будто и не топтан был представителями каких угодно властей. В цеху красовалась новенькая машина центробежного литья фирмы «VIGOR». Ее Петрович по Санькову посредничеству выменял у посла Марокко на египетский ларец времен фараонов XIV династии.
Бронза была уже доведена до нужного градуса. Как толпа на площади, почему-то подумал Петрович и вытащил из сейфа банку с наклейкой «XV век». С полчайной ложки черной пыли он осторожно пересыпал в фарфоровую чашечку приспособления, напоминающего турецкий кальян. Одну из трубок «кальяна» он вставил в литник формы и, сплюнув через левое плечо, вдул пыль.
— Ну, Леха, мерь температуру! Порядок? Льем!
Жидкая бронза, хлопнувши, перелилась в фарфоровую ванну, и Петрович тут же включил рубильник. Центрифуга взвыла, как сирена, и бронза шарахнулась в укромные закоулочки.
Петрович уже закуривал вторую сигарету, когда Леха, отстегнув защелки кожуха, вынул форму. Коническое отверстие литника было наполовину пустое, и Леха заулыбался. Заливка явно удалась. Петрович даже не стал смотреть на форму.
— Порядок, Леха, кидай ее в щелочь, а завтра с утра начинай чеканить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: