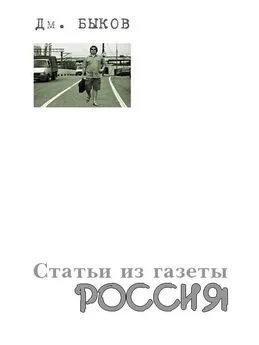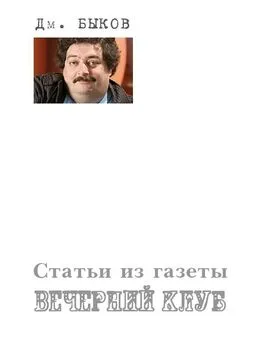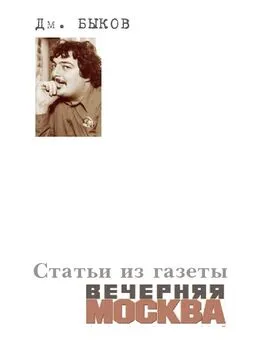Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Труд»
- Название:Статьи из газеты «Труд»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Труд» краткое содержание
Внутриполитические прогнозы, внешнеполитический анализ и картины русской духовной жизни в публицистических выступлениях Дм. Быкова в газете «Труд» с 2006 г. по октябрь 2011 г.
Статьи из газеты «Труд» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И тут начинается интересное: степень прозрачности, принятая на Западе, для нас немыслима. Свои лучшие и худшие поступки — творческие подвиги, коррупционные сговоры, любовные акты — мы привыкли совершать в темноте, в относительной изоляции, как можно дальше от всякой публичности. Для русского человека свет софитов позорен, а постоянное внимание соседей к твоей жизни аморально. Русский мир принципиально непрозрачен: здесь много рассказывать о себе неприлично, а без коррупции вообще ничего не делается. Это у нас такой ритуал — немного подмазать, чтобы лучше ехало. Русский человек вынужденно полигамен: состоятельных мужчин единицы, бесприданниц тысячи. И представить, что все наши прекрасные и ужасные тайные делишки выплывут наружу, сделавшись достоянием спецслужб и коллег, — для нас страшней, чем лишиться отопления в морозы; электронный тоталитаризм для нас опасней социального, который все-таки не препятствовал нам шушукаться по кухням и трахаться по парадным.
Исходя из всего этого, я считаю, что торжество прозрачности надо приветствовать. По крайней мере в России.
№ 709, 15 ноября 2007 года
Андоррский синдром
На ближайшее время самой модной страной в России станет Андорра. Наши, конечно, выиграют у нее (когда вы это читаете, уже выиграли). В ничью не верю, проигрыша не допускаю.
Вспоминаю отборочный матч с Англией и диву даюсь, как британское посольство не погромили. Один таблоид тогда так и написал, захлебываясь от патриотической гордости: «Роман Павлюченко дважды поразил британского льва в самое сердце». Живо представлял, как британский лев издыхает от двух голов, забитых Павлюченко. Не знаю уж, как произошла реанимация этого советского представления о спортивном поединке как о камерном аналоге небольшой победоносной войны, но отчетливо помню, когда это стало наглядным. В тот роковой день, когда в Солт-Лейк-Сити (2002 г.) обидели наших лыжниц и Артур Чилингаров закатил патриотическую истерику. Это выглядело не очень прилично и совсем неспортивно.
Спорт вообще-то дело мирное и радостное, сближающее народы, а не разъединяющее их; но у нас ведь сейчас специфическая конъюнктура. Начальство очень хочет, чтобы его любили, причем взахлеб. А любовь получается, к сожалению, только от противного, потому что в принципе-то особо любить не за что: начальство как начальство, не лучше других… Вся телереклама «Единой России», искренне считающей декабрьские выборы референдумом о доверии начальству, строится на противопоставлении нашего прекрасного времени и ужасных девяностых. А все новостные программы строятся на противопоставлении нашей прекрасной жизни и ужасной заграничной. Мы в кольце врагов, а в этих условиях спорт — уже далеко не мирное занятие. Невротизация спортсменов, неумеренные восторги по поводу удачников, дружное «фи» в адрес неудачников, перенос политических реалий и оценок на обычные футбольные баталии… Вот рядовые матчи и вырастают в эпические события; вот президент и начинает общение с народом поздравлением в адрес нашей сборной; и быть неболельщиком вроде меня становится уже вроде как и непатриотично.
Я очень боюсь за Андорру. Государство маленькое, может и не выдержать накала ненависти, который на него обрушится. Для кризисных, неуверенных в себе, сырьевых империй весьма характерна эта черта — самоутверждаться за счет маленьких и уважать себя за счет второстепенного. А футбол вещь второстепенная на фоне реальной обороны, производства, соцзащиты и морального состояния страны.
Я бы ввел термин «андоррский синдром». Это такая болезнь национального духа — когда страна переносит на спорт максимум моральной и геополитической нагрузки, наделяет его искусственными, калечащими смыслами, потому что ни по каким серьезным критериям ни с кем соревноваться не может. Коррупция зашкаливает, вожди отличаются самовлюбленностью, выдающихся достижений в науке и культуре нет… Это я, как вы понимаете, не про нас — как можно! Это я про Андорру, где по случаю этого матча наблюдается нешуточный ажиотаж, а некоторые даже отваживаются сравнивать себя с Россией.
№ 714, 22 ноября 2007 года
Прощай, сапог
Начальник тыла российской армии Владимир Исаков озвучил главную сенсацию 2007 года. Российская армия торжественно избавляется от сапог и портянок, — это момент переломный, свидетельствующий о необратимых переменах в стране. Может, единственная радостная новость этой осени.
«Семьсот тридцать дней в сапогах» — стандартное обозначение армейской службы в российской разговорной речи. То, что не семьсот тридцать, уже грандиозный прорыв, но то, что не в сапогах, — революция. Сапог — вечная кличка сухопутного военного, символ несвободы, принуждения, армейского идиотизма, тоталитаризма и множества прочих «измов», в быту обозначавшихся емким словом «дубизм». Кирза — такой же символ тупости и нищеты, характерных для службы в отдаленном гарнизоне; «кирзовая каша» — армейское название перловки, по фактуре в самом деле напоминающей зернистое вещество, из которого изготовлялись солдатские сапоги.
Наконец, российская армия отказалась от портянок, которые продержались на вооружении добрых сто лет. Подчеркиваю: на вооружении! В войсках их заслуженно называли химическим оружием. Главным аргументом против носка было то, что в носке нога якобы гниет, а в портянке дышит. Это бред, конечно, потому что в портянке нога часто стирается, в особенности у молодых, которым в результате в первые месяцы приходилось вынужденно пополнять отряд «тапочников», а то и мучаться флегмонами, а носки и так носились в армии повсеместно, служа привилегией дедов и дембелей, и ничто ни у кого не гнило. Портянка, может, и теплее обычного хэбэшного носка, но никто не мешает носить теплые носки. И стирать их, заметим, кстати, проще. Главным преимуществом трехлетней службы на флоте, во всех прочих отношениях изнурительной, служил именно носок.
Сапог, конечно, вещь хорошая. Главное его достоинство — быстро надевается. В армии ведь главное — скорость. «Р-р-р-ота, па-а-адъем!» — сорок пять секунд, строй стоит. Ботинок еще шнуровать… Но зашнуровать как следует в крайнем случае можно и после построения.
О чем говорят все эти прекрасные перемены? Ну, во-первых, о том, что конфронтация между Россией и Украиной существенно ослабнет. Ведь это на Украине отменили портянки и сапог месяц назад — стало быть, не все там так уж отвратительно, и можно ожидать заметного потепления в отношениях. Во-вторых, резко сменится армейская мифология, устареет значительная часть поговорок, а портяночная вонь перестанет быть символом казармы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: