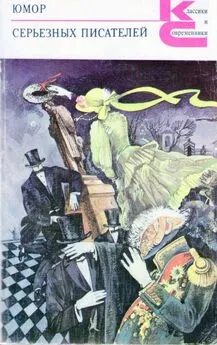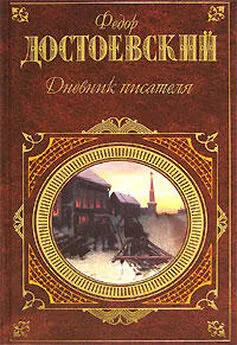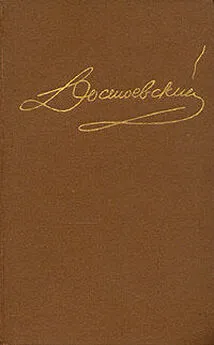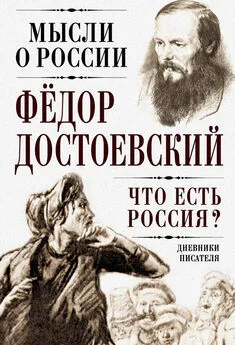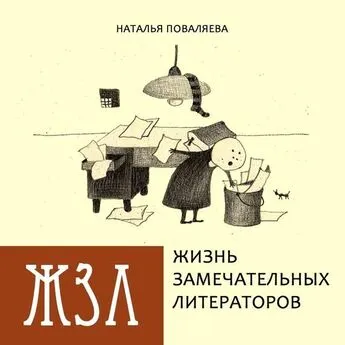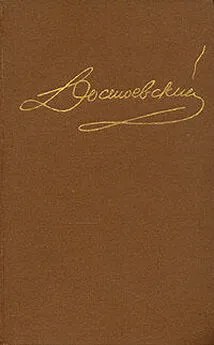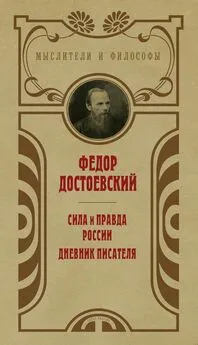Федор Достоевский - Юмор серьезных писателей
- Название:Юмор серьезных писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01011-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Достоевский - Юмор серьезных писателей краткое содержание
Сборник составлен известным писателем-сатириком Феликсом Кривиным. В книгу включены сатирические и юмористические рассказы, повести, пьесы выдающихся русских и советских писателей: «Крокодил» Ф. М. Достоевского, «Левша» Н. С. Лескова, «Собачье сердце» М. А. Булгакова, «Подпоручик Киже» Ю. Н. Тынянинова, «Город Градов» А. П. Платонова и другие.
Темы, затронутые авторами в этих произведениях, не потеряли своей актуальности и по сей день.
Юмор серьезных писателей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так врет себе и детям своим во вред бедный лгун в рассказе А. Ф. Писемского «Богатые лгуны и бедный», — врет, становясь по мере вранья из бедного нищим, калечась и увечась, но при этом не переставая врать.
Люди часто лгут от бедности. А что им остается еще, если бедность — их единственное богатство? Скажешь, что страна твоя широка, что ты по ней проходишь, как хозяин, — вроде почувствуешь себя хозяином. Скажешь, что все вокруг твое, — и оно вроде твое, хотя своего не только вокруг, но и внутри тебя ничего не осталось.
Имя упоенного вруна Мюнхгаузена стало нарицательным. Имя вдохновенного хвастуна Тартарена стало нарицательным. Имена Ноздрева, Репетилова, Вральмана стали нарицательными. А имя «кроткого лгуна» Петра Вакорина никому не известно. Прочтешь о нем у Писемского — и забудешь тотчас… А может, на них, безымянных, главное-то вранье и держится…
В тот самый год, когда в литературе появился талантливый самородок Левша, в жизни был казнен другой самородок — Кибальчич.
Россия всегда рождала таланты, но не давала им плодоносить.
Может, тут все дело в слабой организации?
«…на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски, ногою ткнет, и еще злее понесутся…»
Простой лошадью управлять — и то целое управление!
Потому и спешим, никак самих себя не догоним: «Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее… и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее…»
Но главное-то, главное! Подковать-то блоху подковали, но, как оказалось, этого делать не следовало. Потому что подкованная блоха перестала танцевать. Подкована — высший класс, а что-то не вытанцовывается.
Объяснил Левша англичанам: в науках мы не зашлись, зато своему отечеству преданные.
Насчет себя он, конечно, поскромничал. Но ведь с у дьбы науки в России как раз те и вершили, что в науках не зашлись. То они в генетике не зашлись, то в кибернетике не зашлись, возвеличиваясь только тем, что они отечеству преданные.
И отечество их жаловало — куда больше, чем свои таланты. «Везли Левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут — ухи рвут…»
Забывчиво отечество: все забывает, кого миловать, кого казнить, кого проклинать, кому памятник ставить.
Память о таланте в отечестве по-разному живет: когда хорошо живет, когда плохо. Память о Достоевском после революции долго жила плохо, а потом стала жить хорошо. И о Булгакове — жила плохо, а стала жить хорошо. Догнала наша память и Леонида Андреева, очень серьезного писателя, который в своих произведениях самого Льва Толстого пугал (правда, так, что Толстому было не страшно).
И вот этот серьезный писатель Андреев пишет смешную пьесу о том, как живется таланту после смерти в памяти его соотечественников.
В городе Коклюшине вознамерились ставить памятник Пушкину, и учредители памятника собрались по этому поводу заседать: «…почему же мы не заседаем? Или мы уже? Прошу вас, г. г., заседайте, заседайте!.. — …Пушкин так Пушкин… — Прошу господ собрание не ржать… — Так — я ничего не имею: Пушкин — ну и Пушкин; а неприличия, как градской голова, допустить не могу, на мне медаль…»
Долго обсуждается вопрос: куда повернуть лицом памятник Пушкину? С одной стороны у него острог, с другой — свечной завод, с третьей — приют для престарелых, а с четвертой и вовсе сумасшедший дом. Куда ни поверни Пушкина, всюду прочитывается крамола.
Но главный вопрос был все же не этот. Главный был вопрос: почему нужно ставить памятник именно Пушкину?
«…но почему именно Пушкину? Мало ли других великих людей? А то все Пушкин, Пушкин…»
Человек, который родился в Севастополе, а умер в Неаполе, который совершил кругосветное путешествие, а впоследствии оказался на поселении в Сибири, уже этим одним заслуживает того, чтобы не затеряться в памяти потомков. А если в сибирской ссылке, вдали от всех возможных морей, он начинает писать свои «Морские рассказы»…
Константину Михайловичу Станюковичу не понадобилось ничего сочинять, как это делали авторы увлекательных морских приключений. Может быть, потому, что вдали от моря самые будничные морские дела приобретают особенную окраску.
Он писал серьезно, но без юмора не мог обойтись, — конечно, не в такой мере, как не мог обойтись его земляк, тоже уроженец Севастополя Аркадий Аверченко. И рассказ «Смотр» — это, в сущности, не смотр, а показ. В нем не столько смотрят, сколько показывают.
В России еще со времен Потемкина любили и умели показывать, но слишком часто такие показы кончались неудачей.
Смеяться умеет только добро, но не всегда оно смеется по-доброму. Если бы добро смеялось только по-доброму, у нас не было бы сатиры и мы бы не говорили, что смех — это оружие борьбы со злом. Потому что само добро не может быть оружием.
Известная сентенция, что добро должно быть с кулаками, вызывает сомнение. Оружие добра — не кулаки. Это смех его звенит, как оружие. Это смех его блестит, как оружие. Но это смех, а не оружие. Смех — единственное оружие добра.
Бюрократическая система — система зла, поэтому она не приемлет смеха. Схватка между ними начинается сразу, без объявления войны. Между ними невозможно сосуществование. Поэтому серьезный писатель, даже очень далекий от жанра юмора, не может обойтись без юмора, — если он не является сознательным защитником бюрократической системы. Чувство юмора теряет лишь тот, кто обслуживает бюрократическую систему. Обычно это признанные системой писатели, увешанные наградами, возвышенные должностями. Беря пример с системы, они начинают относиться к себе всерьез и не способны смеяться над собой, что является особенностью любого таланта. Не способный смеяться над собой писатель перерождается из писателя в служащего системы, и для него, как для служащего, образцом талантливости является любое произведение, любой текст, любое высказывание Главы Системы. Выше Толстого, выше Шекспира для него бюрократический документ, которому он готов присудить самую высокую литературную премию. Потому что для того, чтоб соразмерить то и другое, нужен юмор, а его нет. Он засушен, как бабочка между страниц бухгалтерской книги, именно бухгалтерской, потому что в бюрократической системе ничто не делается бесплатно.
В этих условиях юмор, оставшийся в живых, уходит в анекдоты, где есть возможность существовать бесплатно — ничего не получая, но за все расплачиваясь. Он живет в ожидании своего первопечатника Федорова, который когда-нибудь снова изобретет для него печать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: