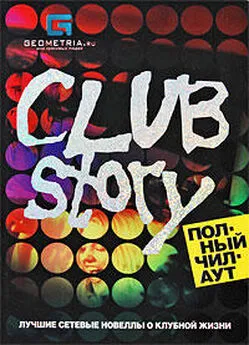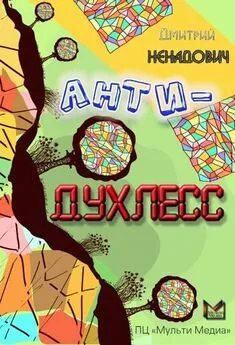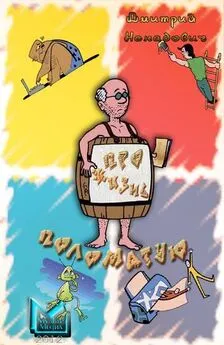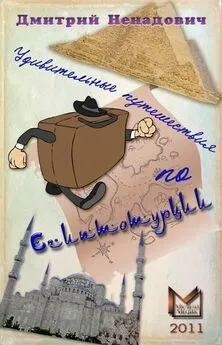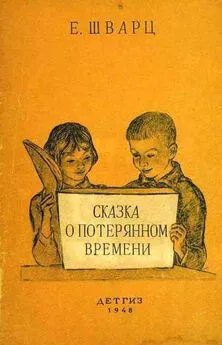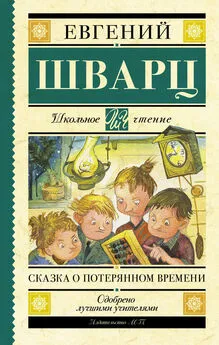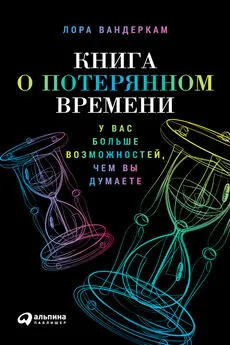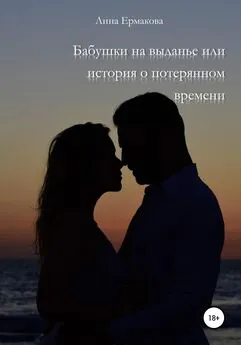Дмитрий Ненадович - Повесть о потерянном времени
- Название:Повесть о потерянном времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Ненадович - Повесть о потерянном времени краткое содержание
События в «Повести о потерянном времени» охватывают небольшой временной интервал, предшествующий началу строительства отечественного капитализма, и сам период бурного формирования рыночных отношений. Все события и метаморфозы человеческих характеров описаны с юмористическим акцентом, сглаживающим остроту и драматизм происходящего в стране.
Повесть о потерянном времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ага, вот и долгожданная развилка. От нее, как объяснили еще в штабе, до спрятанной в лесах части ходит автобус. На остановке, внушая некие опасения, царит полное безлюдье. Ни души кругом. Ан, нет. Внутри неровно окрашенного в пупырчатости своей сооружения, издалека напоминающего слегка упорядоченную свалку железобетонных плит, вдруг обнаруживается одиноко сидящий на разломанной скамейке-жердочке грустный старичок-боровичок со слегка отвисшими в беззубости щеками. Грусть его вскоре объясняется довольно просто: «Афтобуф только фто уфел. Щасу не профло есе, как уфел. И я, фот, фишь, фоенный, тофе опофдал. Фсе бабка эта — лефый ее забери, самохфонку ф бане запфятала, а фтакан ф фубными протэфами так и не нафел. Это она фтобы я к куму ф гости не ефдил. Ф Слизнефе он у меня фифет. Недалеко отфель. Аккурат рядом с помойкой. Со ффей Москвы туды мусоф сфозят. Фонища! Глазья на лоб! Но фифут как-то. И дафно федь уфе фифут. Прифыкли. Да ефе, фишь ты как, в гости приглафают. Стало быть ффе у них там форофо. Фубы-то ладно, больфе ф горло проффкочит. Фа-фа-фа. А как в гофти ф пуфтыми-то руками? Беф магарыфа? Ну и бабка мне досталася! Не бабка — кобра какая-то! Фиди таперича тута полдни иф-фа эфтой фмеи. А фообфе-то афтобуф фдефя фафто фодит. Быфалыфа, люди гофорили, аф по тфи фаза на день приеффал он, ефели конефно не фломаетфя где или Фитька-фофер не фапьет, каналья. Да не перефивай ты, фледуюфий, уф фофсем фкоро будет — пару-тройку фафов фего-то и офталофя ефо подофдать. Ф другиф мефтнофтях, люди гофорят, фто фроду фообфе никакофо транфпорту не дофдефьфи. Только на попуткаф когда фрофно надо куда добираются. А до фафти твоей, товариф фоенный, фдесь ефе километров фесть будет. Так фто дафай-ка «ф дурофка» ф тобой, пока футь да дело, перекинемфя. Картифки-то, как раз для эфтих случаеф нофу зафсегда ф фобой». Разгоряченного быстрым перемещением Серегу такая интенсивность автобусного сообщения и перспектива остаться «дураком» в народной памяти этого хитрющего в беззубости своей деда явно не устроили. Он тяжело вдохнул своей полной надежд грудью и почесал по уходящей вверх по склону нарытого ледником холма дороге дальше, прихрамывая, но не снижая темпов своего прерванного было передвижения в манящую грядущими карьерными перспективами шестикилометровую даль.
Глава 1. Возвращение
Что же произошло с нашим хромоногим героем после памятного выпуска-впуска? Ничего страшного с ним собственно не случилось — был отправлен отдавать свой врожденный интернациональный долг в Демократическую Республику Афганистан (попросту ДРА, а еще проще «Афган»). Первое время служба его складывалась относительно спокойно: привезли в Кабул, а оттуда взяли и забросили дважды обстрелянной в пути «вертушкой» на высокогорную «точку». («Чего тепловые ловушки-то не сбрасываете?» — спросил Серега у бледного и едва очухавшегося от противо— «стингерового» маневра командира «вертушки». «Да пошел ты к едрене— фене со своими ловушками, умник! Где они, ловушки-то эти? Месячной нормы на неделю только-то и хватает! И все только об экономии гундосят эти тыловые крысы: вдруг, дескать, какую важную персону или нас, к примеру, транспортировать придется, а у вас запаса нет? Тьфу! Гниль! Я их за тройную месячную норму только-то и вожу. И все равно не хватает: не большие они охотники летать-то!» — в сердцах ответил командир латаной-перелатаной краснозвездной «стрекозы».
Ну, в общем, худо ли, бедно ли, но забросили живого и здорового Серегу в указанную Родиной точку, и на том, как говорится, спасибо. Забросили и доверили обеспечение радиорелейной и тропосферной связью «ограниченного контингента» на одном из направлений контроля территории ДРА. Но затем кому-то пришла идея о передислокации сложного связного хозяйства в новое и жутко секретное (для самих себя) место, а во время абсолютно (опять же, скорее, для самих себя) скрытного свершения марша совершенно неожиданно завязался внешне бестолковый, но видимо тщательно продуманный «духами» бой. Бой длился почти сутки, и был очень насыщенным различными военными событиями. Помимо дневных, то утихающих, то разгорающихся вновь перестрелок, были контратаки с попытками полностью «зачистить» близлежащие к растянувшейся на несколько километров колонне так называемые «зеленки». «Зеленки» представляли из себя полосы низкорослых и кривых древесных и кустарных растений, изрыгающих поминутно из-под корней своих смертоносные свинцовые отрыжки. Отрыжки коротких, но частых и довольно метких «духовых» очередей. Вот тогда и понял Сергей, что это такое — ожидание сигнала атаки. Понял он и каково это встать среди рассекающих знойный воздух пуль и сделать простой, незамысловатый такой шаг вперед. Причем сделать этот непростой шаг надо было очень уверенно, дабы заразительным примером своим и звучным командирским рыком вдохновить заметно нервничающих бойцов. А в паузах между «зачистками», лежа за колесами бронетранспортера «КШМ»-ки, Серега вдруг живо вспомнил рассказы фронтовиков, с которыми приходилось ему беседовать во время организованных актов патриотического воспитания: «Ребята, это ведь как: встаешь средь неумолкающей стрельбы и кажется, что все это, выстреленное и висящее в воздухе, летит прямиком в тебя. Вот еще секунда и рухнешь полным свинца мешком в хлипкую грязь». Вспомнилась тогда Сереге и «секретная», исполняемая только на концертах, песня знаменитых в то время «Песняров», возглавляемых великим Владимиром Мулявиным:
Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать,
Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки.
(Конечно, как же такое можно брякнуть на всю страну по радио? Как это советский герой может плакать? У настоящего советского героя, у него ведь всегда как? Он никогда и нечего не боится и никогда из глаз его орлиных не выдавить даже скупой слезинки. Всяческая сентиментальность чужда настоящему советскому герою. По чьему-то мудрому замыслу этот герой должен либо сидеть себе мужественно в окопе с каменной мордой своего сурового лица (герой в обороне), либо с той же мордой лица куда-то наступать, бешено вращая глазами в устрашение противника (герой в атаке). Но самое главное — это то, что настоящий герой должен быть готовым в любую секунду с великой радостью проститься со свой еще молодой, но уже, видимо, доставшей его окопно-гадостной жизнью. И радость героя, прощающегося с жизнью, должна выражаться в прославляющих Родину предсмертно-радостных криках. Словом, советский герой — это не чета детям из 1-го, 2-го и 3-го Рэмбо. А тут какие-то слезы перед всегда победным наступлением!)
Но песня нахально продолжалась дальше:
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной,
Но вот разрыв, и погибает друг,
А значит, смерть проходит мимо.
Интервал:
Закладка: