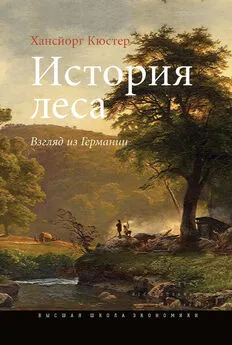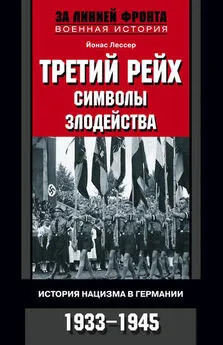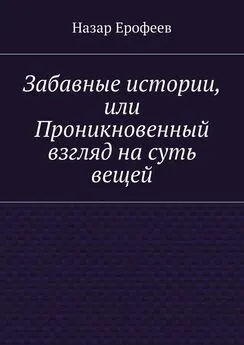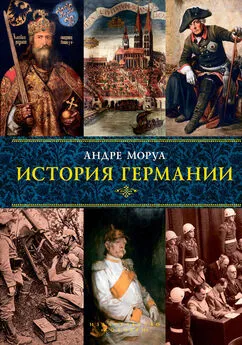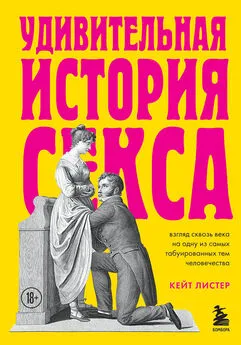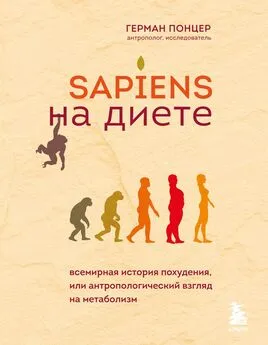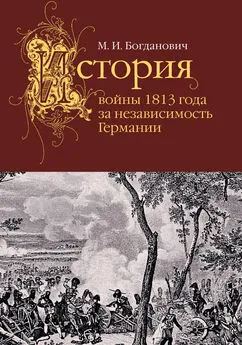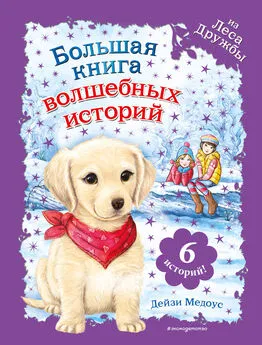Хансйорг Кюстер - История леса. Взгляд из Германии
- Название:История леса. Взгляд из Германии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0962-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хансйорг Кюстер - История леса. Взгляд из Германии краткое содержание
Именно таким путем и идет автор «Истории леса», палеоботаник, профессор Ганноверского университета Хансйорг Кюстер. Его книга рассказывает читателю историю не только леса, но и людей – их отношения к природе, их хозяйства и культуры.
История леса. Взгляд из Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С лесными деревьями связаны определенные виды животных. На них садятся птицы, особенно охотно выбирая для «присады» длинные ветви с внешней стороны опушки, – с них открывается лучший обзор. Многие птицы питаются плодами и семенами. Семена рябины, бузины, косточки вишни не перевариваются, а выделяются с пометом, что особенно часто случается именно тогда, когда птицы сидят на ветках. В богатой азотом «упаковке» из птичьего помета семена падают под деревья, прежде всего расположенные по внешней стороне опушки. Там, на открытом месте, где количество солнечного света максимально, они прорастают и становятся участниками общего процесса расширения границ леса. Птиц, «работающих» над расселением лесов, довольно много: сойки переносят орехи лещины и желуди, кедровки – семена пихты и «орешки» европейской кедровой сосны, клесты – еловые семена.
Итак, когда в какой-то местности, где по климатическим условиям мог бы расти лес, появляется дерево-пионер, то под действием многочисленных факторов от него начинает неудержимо расходиться во все стороны древесная растительность. Не надо, конечно, объяснять это некоей «волей» леса, его желанием стать больше и выше. Но в процессе эволюции преимущество постоянно получали те виды, которые развивались в соседстве с другими деревьями и кустарниками. В таком случае уменьшался ущерб от морозов, снега, ветра, сухости и травоядных животных. Поскольку весь четвертичный период с его многочисленными потеплениями каждый раз формировались новые леса, то именно те виды деревьев, которые участвовали в этом процессе, оказались лучше других приспособлены к продвижению леса на открытую местность.
Чаще всего рядом с большим деревом поднималось еще одно – несколько меньшего размера, а рядом – еще поменьше, то есть границы леса в современном смысле в те времена вообще не было, а был лишь постепенный переход от леса с его высокими деревьями к «не лесу» открытых пространств. Иными словами, отношения между лесом и открытым пространством можно описать как градиент. Этот градиент занимал полосу большего или меньшего размера со столь же размытой внешней границей, как и сама лесная экосистема, которую он окружал. В этой промежуточной между лесом и «не лесом» зоне держались многочисленные виды растений из степей и тундр ледникового периода. Здесь они имели доступ к солнечному свету и конкурировали с наступающими на них деревьями, правда, эта борьба продолжалась, только пока деревце было совсем юным.
В некоторых ситуациях лес в конце концов достигал максимально возможной точки распространения, хотя отдельные его представители, конечно же, пытались расти и на опушках, и вне зоны градиента. Однако условия там были для него настолько неблагоприятными, что травы оказывались сильнее и побеждали в конкуренции с деревьями.
На скалах и щебнистых склонах есть участки, где слой почвы очень тонок. В таких местах корни деревьев не могли надежно закрепиться. Не росли деревья и в регионах со слишком коротким и холодным летом. Период вегетации должен быть как минимум таким, чтобы успело образоваться годичное кольцо – группа молодых клеток, проводящих воду, минеральные и органические вещества по стволу дерева. Из-за этого лишены леса Арктика и альпийские высокогорья. С большим трудом выживали деревья и на вершинах менее высоких гор. Из-за сильных ветров, снега и льда в таких местах лучше чувствовали себя травы и карликовые кустарнички. Не могли расти древесные растения и на сильно заболоченных участках: их корни постоянно находились бы ниже уровня грунтовых вод, а в таком случае и сами корни, и микоризные грибы задохнулись бы в отсутствие кислорода. Леса не могли подходить и вплотную к морским берегам, где почвы содержат соль. Соль гигроскопична – активно впитывает воду. Растения также используют это свойство солей, чтобы вода поступала в их клетки. Однако у большинства растений сосущая сила гораздо ниже, чем у морской соли в почве. Если растение не имеет специальных приспособлений, чтобы выжить в условиях почвенного засоления, то оно погибнет от жажды – несмотря на близость целого моря воды! Древесные растения Центральной Европы ни при каких обстоятельствах не могут расти на засоленных почвах, лишь некоторые виды трав можно встретить на заболоченных побережьях Северного моря (маршах). Даже там, куда штормовой прилив принес немного соленой воды, не будут расти деревья, пока дождь не вымоет из почвы соль.
Итак, существует целый ряд экологических условий, сдерживающих формирование лесов. Однако даже когда эти условия вступают в игру, распространение деревьев останавливается не полностью и не навсегда, оно лишь притормаживается и в конце концов настолько замедляется, что складывается впечатление полного покоя. Но на границах лесного градиента молодые растения всегда будут «пытаться» осваивать окружающие открытые пространства. Формирование четкой линии опушки определяется воздействием извне – идет ли речь о скалах с их льдом, морозом и ветром, или о море с его соленым прибоем, или о реке с ее стремительным течением, ломающим и уносящим растущие по берегам деревья. К примеру, на меловых скалах острова Рюген штормы, ледяные дожди и лавины пробивают в лесу лакуны и целые коридоры, формируя четкий край леса. Понятно, что такие резкие граничные линии в природе можно видеть куда реже, чем мягкие градиенты.
Многообразие переходов между лесом и открытым пространством осложняет понимание, как выглядел ландшафт Центральной Европы сразу после окончания ледникового периода. Застилает глаза опыт сегодняшнего дня. Специалистам по пыльцевому анализу задавали и задают вопрос: каким было соотношение леса и открытого пространства в то или иное время? Десятилетиями по этому поводу велись оживленные диспуты. Однако такой вопрос ставился исключительно исходя из опыта, основанного на знании элементов современного культурного ландшафта. То, что характерно для сегодняшнего дня, не обязательно было таковым в прежние времена, и четкая граница между лесом и «не лесом» – типичный тому пример. Центральная Европа была в принципе лесным регионом, но здесь же уживались и многочисленные виды светолюбивых растений, где-то они чувствовали себя лучше, где-то – хуже. Некоторые виды знакомы нам сегодня как обитатели лесных экосистем, другие – как виды открытых пространств, но четкого разделения между местами произрастания обеих групп не существовало. Не было ни тех «лугово-степных пространств» (Steppenheiden), о которых писал в своей нашумевшей теории Роберт Градман [29] Роберт Градман (1865–1950) – немецкий священник, географ, ботаник и краевед. Автор «лугово-степной теории» (Steppenheidentheorie), согласно которой древние люди заселяли европу начиная с безлесных лёссовых участков. Причину этого он видел в том, что люди не могли расчищать пространство от леса и потому селились там, где деревьев было мало. его теория обусловила долгие и ожесточенные споры о том, что такое лес, о его истории и границах в разные исторические эпохи. – Примеч. пер.
, ни тех сплошных сомкнутых лесов, на существовании которых настаивали его противники, уверяя, что в таких лесах вымирали растения-светолюбы. В ходе подобных дискуссий обсуждалось, что такое «лес», то есть были попытки выразить в процентах, сколько древесных растений должно расти на определенной территории, чтобы эту территорию можно было назвать лесной. Это, может быть, необходимо с точки зрения географии – при составлении карты нужно наносить на нее границы между отдельными географическими единицами, прежде всего между лесом и открытым пространством. Однако с точки зрения биолога описывать границу естественного леса – дело не слишком полезное. В природе все выглядит совсем не так, как на абстрактных картах географов.
Интервал:
Закладка: