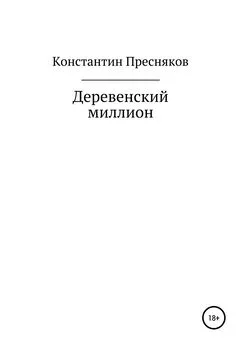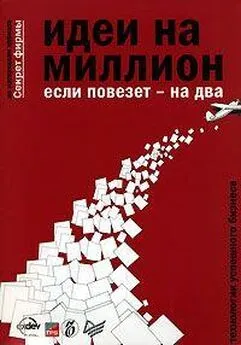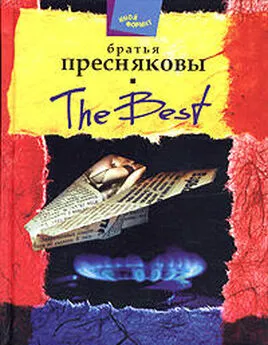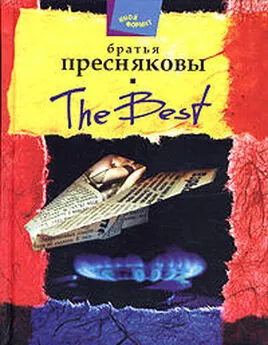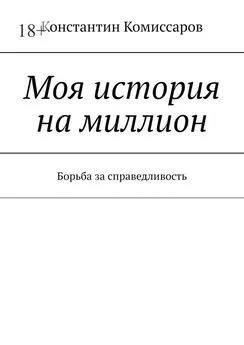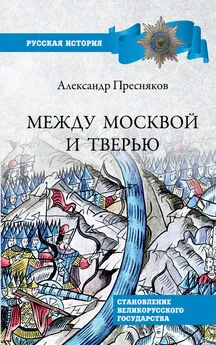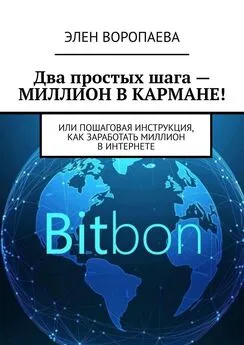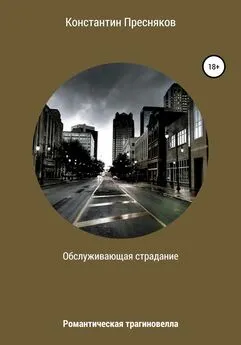Константин Пресняков - Деревенский миллион
- Название:Деревенский миллион
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Пресняков - Деревенский миллион краткое содержание
Деревенский миллион - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Был тут когда-то один городской инициатор, он женился на местной и работал здесь, – пояснила ему библиотекарь. – В советские времена в колхоз приезжали фабричные шефы для помощи. Он был из этих, женился на местной девушке и остался здесь. Вот он сплотил местных ребят, кто был не равнодушен к музыке. И они давали живую музыку на некоторых праздниках и на свадьбах. А так село без музыкальных традиций, есть несколько гармонистов, что играют на свадьбах. Потом этот инициатор развёлся, и уехал мужичок, который держал в тонусе местных самодельных музыкантов, в неизвестном направлении. Но село это уникальное своей молодостью, – рассказывала библиотекарь.– Вы заметили, что на селе нет старых зданий, нет места для храма?
– Да, я это заметил. Я всё-таки бывал в селах, и везде есть фундамент от церкви или он приспособлен подо что-то, – сказал он ей.
– Село организовано только в советские времена. До этого здесь была только пара домов, да трехэтажное здание от имения барина – генерала, из свиты батюшки царя. Вот и всё. При барской усадьбе – сад, аллеи которого ещё можно наблюдать.
– А вот пруды?
– Пруды эти от царских времен. Последний раз их перед войной чистили, тогда музыки было много и помнили, как чистить пруды. Все пруды эти – искусственные, выложены хорошим крепким кирпичом. Но уже лет восемьдесят они в запустении. Их не спускали и не чистили. Те, кто знал, как и зачем это делать, погибли в войне с фашистами. Был один, который ещё что-то смыслил в этом искусстве, единственный специалист по очистке прудов, но он умер в марте 1953 года от воспаления легких в райбольнице. Как мне рассказывали, он планировал очистить, но не с кем было это сделать. Вот подрастали пацаны, с ними он и строил планы на будущее. Правда, здесь началась компания и многие из них стали разъезжаться из села. Но некоторые старожилы рассказывали, этот человек был родственником того самого царского генерала, и вроде как «не-закон-н-ым сы-ном», – с растяжкой и полушёпотом сказала она. – Его родственники живут и сейчас здесь. … А те из мужчин, – продолжила она по прежней теме, – которые пришли с войны, были хворые и больные, а потом сюда понаехало из соседних сел тех, кто этих традиций не знал.
– Вот вы так хорошо всё знаете. Вы, наверное, из тех старожилов?
– О! Нет. Просто мне по своей должности нужно было знать. Я с тех времен работаю, когда один из секретарей обкома партии, говорил, что нужно историей заниматься. Заставлял создавать музеи при школах и сельские… Вот и мне было задание, я и этим занималась. И многое что выяснила.
– То есть, истории нет?
– Да, у этого селения история только с 23 или 25 года прошлого века.
– То есть менее ста лет!
– Да, – подтвердила заведующая.
Сила качал от удивления головой. «Вот это да», – думал он про себя.
– Здесь была барская усадьба генерала. Вот при нём был заложен сад фруктовый, – указывала она в окно со второго этажа этого ДК. – Там малина, вишня. Сливы, яблони. Аллеи. Их ещё и сейчас можно заметить. Теперь они застроены сараями, хлевами, калдами, курятниками, … а так народ приезжий в своей массе, – рассказывала ему библиотекарша. – Я-то сама окончила библиотечное отделение института культуры в Самаре. Молодое население: только первое, реже второе поколение. Теперь в демократические капиталистические времена ни местным горе фермерам, ни московскому владельцу земель преднамеренно разоренного колхоза нет дела до селян. «Олигарх» только собирает дань с арендуемых земель. Островок демократии лишь в комнатах сельской администрации – бывшего помещении сельского совета. Вы село наше осмотрели?
– Да не совсем, а что здесь смотреть?
– Ну, в принципе, это не город, смотреть нечего. Разве что по саду пройти, который взяли в аренду бывший главбух и главный семеновод. Пруды наши заиленные. Леса! В них даже заблудиться нельзя. Бывшие фермы скотного двора вряд ли Вас заинтересуют. У нас даже известных более менее уроженцев нет. Ну, какого-нибудь там самородка художника, писателя, героя войны. Вон с Белогорья, это село в сторону мара, там хоть уроженец стал генералом. А здесь ничего и никого.
– Прямо так и никого.
– Никого. Если пойдете на наше кладбище, то увидите, какое оно маленькое и не древнее.
– А это, мар, что это такое?
– Это холм, возвышение, местная гора, одним словом ма-ар, – протяжно произнесла она последнее слово. – Вот если на него сходить или съездить. С него красивый вид открывается. Меня муж несколько раз туда возил, красиво. Он у меня шофёром работал, а теперь…, – махнула она рукой. – И мне на нём нравится бывать. Муж не понимает, что там такое интересное. Чтобы не скучать, побывайте там, – предложила она. – Просто красиво и вдохновляемо.
– Обязательно, – пообещал он.
И вскоре Силе такой случай представился. Снежану вызвали в то село Белогорье, и он случайно узнал об этом, она проговорилась, чтобы он сам один обедал. Он упросил его забросить его на это мар, хотя водитель планировал ехать другой дорогой. Но он пошёл на поводу у докторши и провёз их туда, а его высадил. А сами они отправились дальше.
Мар оказался холмом, полукруглой формы, с более крутым обрывом на южной стороне. На вершине он обнаружили металлическую конструкцию, указывающую самую высокую точку. Вид на самом деле был потрясающий. Слегка засеянное искусственно елями возвышение, которые уже несколько десятков лет проросли. Под ногами он увидел множество самых разнообразных трав, которые, он с трудом, вспоминал из своей школьной поры. И много ковыли… Сила и сидел, и стоял, и обходил, рассматривая разные стороны с холма и на самом деле ему было хорошо в этом месте. Простор степи он ещё никогда так не рассматривал внимательно далеко, далеко…
У него в голове роилась мелодия, рождаемая воем ветра на вершине, криком птиц, стрекотанием кузнечиков, … и тёплым поднимающимся воздухом….
Теперь в демократические капиталистические времена ни местным горе-фермерам, ни московскому владельцу земель, до преднамеренно разоренного колхоза и до селян нет дела, – вспомнил он слова библиотекарши. – «Олигарх» только собирает дань с арендуемых земель. Островок демократии существует лишь в помещении сельской администрации – бывшем помещении сельского совета. Как-то приезжал бывший селянин, который ещё в советские времена уехал на Украину на побережье моря работать, в какой-то портовый город. Он устроил здесь в местной колхозной столовой малое предприятие по изготовлению йогурта, сметаны, сливок и отправлял их в города. Но поставил управлять местную бабу, которая его обворовала.
– Как это так?
– Она получала молоко от селян, а потом перестала платить им за сданное ей молоко, – поясняла она. – А хозяин этот остановился в Саратове. Он приехал, его задержали и в суд. Суд присудил им выплатить за молоко. А это баба как бы ни причём. «Я делала всё, как он велел». Вот так и остались мы ни с чем. Полгода мы получали хорошего качества и йогурт, и сливки от него, пока он сам здесь устраивал это своё предприятие. А потом уехал и её назначил. А она стала верховодить. Вот сейчас и стоит оборудование в столовой. У него ведь родственники здесь живут. Правда, пенсионеры. Нельзя баб ставить руководить – всё дело проворуют, – вспоминал её речи Сила.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: