Василий Молодяков - Первая мировая: война, которой могло не быть
- Название:Первая мировая: война, которой могло не быть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-09-018574-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Молодяков - Первая мировая: война, которой могло не быть краткое содержание
Только ли Германия, как решили победители, виновата в развязывании Первой мировой войны? На основании документов автор убедительно доказывает, что виновниками войны явились все её основные участники — каждый по-своему.
Первая мировая: война, которой могло не быть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вильгельм и Николай переписывались по-английски и называли друг друга на английский лад «Ники» и «Вилли». Пожалуй, лучшую характеристику им, а заодно и их знаменитой переписке, дал американский писатель германского происхождения Джордж Вирек, которого молва называла внуком Вильгельма I, а значит, ещё одним кузеном кайзера:
«Вильгельм хотел укрепить историческую дружбу Пруссии со своим могущественным соседом. Русское понимание монарха как помазанника Божия, абсолютная власть царя и патриархальное устройство русского общества укрепляли его привязанность. Царь был — по крайней мере в теории — тем, кем Вильгельм хотел быть. Возможно, было бы лучше, если бы Николай II правил в Германии, а Вильгельм II в России. Для России это точно было бы лучше. У Вильгельма были все качества, которых не хватало царю, — сильная воля, способность и мощное желание править самолично. В тоне искренней благожелательности Вильгельм — как один член «пурпурного интернационала», обращаясь к другому, — пространно писал Николаю о характере русского народа, глубоко укоренённой привязанности крестьян к «батюшке-царю» и о пагубности компромисса с революционными элементами. Этим Вильгельм раздражал царя, который не нуждался в уроках по теории самодержавия, к тому же от постороннего. Единственным последствием писем стало то, что царь, понимая собственную слабость, стал недоверчив и попытался освободиться от влияния слишком активного соседа».
Убийство эрцгерцога стало ударом не только по дому Габсбургов, но по самой империи. Правящие круги Вены и Будапешта сознавали, что двуединая монархия слабеет и что ей всё труднее отвечать на внешние и внутренние вызовы. Больше всего они боялись «дать слабину» — проявить неуверенность, нерешительность или зависимость от более сильных держав. Габсбурги и их верные слуги готовы были на всё для поддержания престижа династии. В Берлине это понимали и поддерживали их, но отнюдь не только из чувства монархической солидарности. Просто у Германии не осталось других реальных союзников.
Одним из самых беспощадных критиков внешней политики Германской империи оказался князь Бернгард фон Бюлов — бывший министр иностранных дел (1897—1900) и канцлер (1900—1909). Его воспоминания стали пространным обвинительным актом — некоторые прямо говорили «пасквилем» — против кайзера и Бетман-Гольвега, сменившего Бюлова во главе правительства. Понимая, какую бурю возмущения они вызовут, автор завещал напечатать записки посмертно. Прочитав их, Вильгельм II сказал: «Первый раз вижу человека, который совершил самоубийство после смерти». Кайзер изображён в них бездарным политиком, бездарным военным и почти сумасшедшим, Бетман — нерешительным, тщеславным и обидчивым бюрократом, ничего не понимавшим в дипломатии.
Бюлов утверждал, что оставил им блестящее политическое наследство, которым те не смогли воспользоваться. Однако именно за годы его пребывания у власти Франция договорилась с Англией, Англия договорилась с Россией, Россия повоевала, а затем договорилась с Японией, что в сочетании с франко-русским и англо-японским союзами составило Антанту. Против кого они дружили, сомнений не вызывало. Русско-германское сближение против Великобритании, намеченное договором двух императоров в 1905 г. [20] Подписанный по инициативе кайзера 11(24) июля 1905 г. на борту российской императорской яхты «Полярная звезда» у балтийского острова Бьёркё договор содержал обязательства сторон о взаимопомощи в Европе в случае нападения на одну из них какой-либо европейской державы (ст. 1) и о незаключении сепаратного мира с одним из общих противников (ст. 2). Договор, срок действия которого не был ограничен, должен был вступить в силу после заключения мира между Россией и Японией; в случае денонсации одной из сторон предусматривалось информирование другой за 1 год (ст. 3). Ст. 4 гласила, что российский император после вступления соглашения в силу «предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить её присоединиться к нему». В ноябре 1905 г. Николай II направил Вильгельму II письмо, в котором действие договора обусловливалось присоединением к нему Франции, что было фактически невозможным. Формально договор не был расторгнут, но так и не вступил в силу.
, было сорвано усилиями премьера Сергея Витте и министра иностранных дел Владимира Ламсдорфа, боявшихся конфликта с Францией. Бетман-Гольвег считал это «чёрной неблагодарностью за наше отношение к России во время войны с Японией». Решительная и не слишком тактичная поддержка, австрийской аннексии Боснии и Герцеговины усилила напряжённость между Берлином и Петербургом. Улучшению отношений между Францией и Германией постоянно мешал Делькассе. Его устранение с поста министра иностранных дел можно считать главной победой Бюлова, но и оно было подготовлено противоречиями внутри французского кабинета. В Токио помнили речи кайзера о «жёлтой опасности» и его участие в Тройственном вмешательстве 1895 г., когда Германия, Россия и Франция лишили Японию части трофеев в войне против Китая. Об Англии мы поговорим в последней главе, но и там Берлину было не на что рассчитывать. Австрийцев Бюлов, как многие германские политики, недолюбливал, но других союзников у империи не осталось. Поэтому считать князя гением дипломатии едва ли стоит — даже с учётом промахов его преемников.
В этой связи стоит привести наблюдение Фабр-Люса: «Отсутствие единства цели больше, чем что-либо другое, способствовало ошибкам Германии. Конституция империи, казалось, содержала все условия, необходимые для обеспечения стабильной политики, но Бисмарк ушёл, император стал слишком могущественным, а он был самой переменчивой личностью в мире. К тому же у импульсивного монарха не было в советниках министра иностранных дел с твёрдыми традициями и определённой политикой. В 1905 г. Эдуард VII, поражённый внезапными переменами курса Германии (в связи с первым кризисом в Марокко. — В. М. ), спросил Экардштейна (советник посольства в Лондоне. — В. М.). «Так кто же командует в Берлине?» В 1912 г. лорд Холден (военный министр Англии. — В. М.) нашёл, что позиции кайзера, Бетмана и Чиршки открыто расходятся друг с другом. В 1914 г. германская дипломатия являла собой картину полной анархии: от Чиршки, приближавшего войну, до Лихновского (посол в Лондоне. — В. М), который пытался сохранить мир, от Шёна, обманутого собственным правительством, до Пурталеса, обманутого противниками. Кроме того, Вильгельмштрассе [21] Название берлинской улицы, на которой находилось министерство иностранных дел; часто употреблялось для обозначения МИД Германии.
не имела полного контроля над дипломатией. Бетман-Гольвег и Шён поведали нам, как морское министерство вмешивалось в малые и большие вопросы, определяя как общее направление политики, так и выбор консулов».
Интервал:
Закладка:

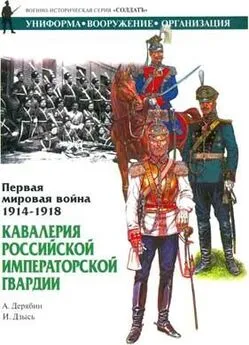
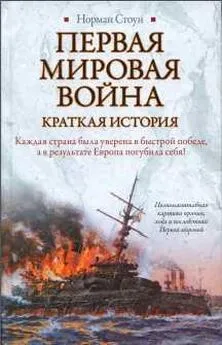

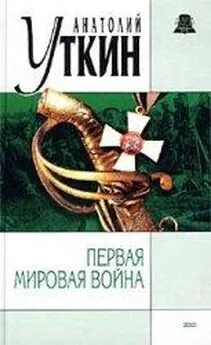


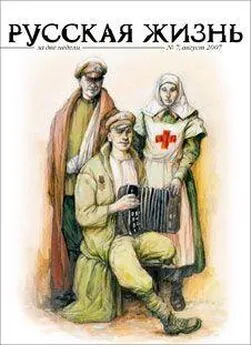
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)

