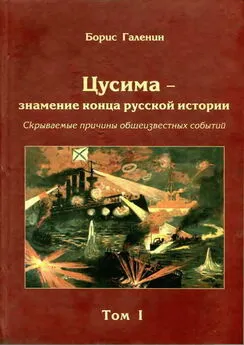Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том I
- Название:Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крафт+
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-93675-153-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том I краткое содержание
Книга рассказывает о продвижении и расширении Российского государства на Восток начиная с похода Ермака и заканчивая Цусимским сражением, поставившем в этом продвижении точку.
Автор широко использует в своей работе материалы, на которые до сих пор не обратили должного внимания исследователи, занимавшиеся проблемами русско-японской войны 1904-1905 годов. Так, даже поверхностное знакомство с документами, связанными с занятием Россией Порт-Артура и Квантунского полуострова, приводит к выводу, что эти события были крупнейшим провалом русского МИДа, граничащим с государственной изменой.
Также в работе немало места уделено многочисленным «странностям», связанным с подготовкой России к вполне ожидаемому военному конфликту на Дальнем Востоке, которые являют собой ряд энергичных, целеустремленных и высокоорганизованных действий, создавших максимально неблагоприятные условия для участия России в предполагаемом конфликте.
Особое внимание автор обращает на методы командования русской Маньчжурской армией, традиционно объясняемые «бездарностью» царских военачальников. Приведенные в книге документы и свидетельства склоняют к мысли, что командование это было скорее гениальным. Вопрос только — в чьих интересах оно действовало.
Книга печатается в авторской редакции.
Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В то же время Хаяси передал русскому представителю в Сеуле словесную ноту, в которой, между прочим, писал, что «ввиду преобладающего числа японских подданных и значения торговых сношений с Кореей, Япония не может оставаться равнодушной к вопросу о том, в чьих руках окажется постройка корейских железных дорог, так как им непосредственно окажутся затронутыми японские интересы». Когда же под угрозами и настояниями Хаяси корейское правительство, конечно, отказало барону Гинцбургу, то японцы сами пристали к корейцам о выдаче им той же концессии.
«Никогда еще принцип приобщения Кореи к сфере исключительно своих интересов не был выражен Японией так ясно и определенно, как в этот раз», — писал по поводу словесной ноты русский поверенный в делах при корейском правительстве. Но эпизод с железной дорогой Сеул — Ичжоу имел значение еще и с другой стороны, помимо той, о которой говорил этот поверенный.
Проникновение к северу
Из сказанного выше видно, что японцы заботливо подготовляли себе из Средней и Южной Кореи промежуточную базу на случай своей борьбы с Россией. Они заблаговременно стремились утвердиться в Южной Корее с целью облегчить себе производство десантной операции и овладеть столь важными для военных действий телеграфными сообщениями, а также подготовляли для себя железнодорожный путь к Сеулу.
В то же время японские гарнизоны в Сеуле и Генсане вместе с массой проживавших здесь японцев являлись вполне достаточными авангардами для того, чтобы при первых же признаках начинающейся борьбы подчинить японской воле корейское правительство и захватить в свои руки почин в дальнейших действиях.
А как иначе, если мы даже протокол Ниси-Розена в своих целях использовать не желали. Слабость не уважают нигде, а Восток — вообще, дело тонкое.
Но если средняя и южная части Кореи должны были служить для японцев промежуточной базой, то, понятно, что и северная часть страны должна была бы играть для них роль, как минимум, наблюдательного пункта за якобы ожидаемым нашествием сюда русских сил. По крайней мере, по всей Северо-Западной Корее, вплоть до маньчжурской границы, во всех уездных городах и более крупных селениях были рассеяны «дежурные аптекари», которые в действительности являлись негласными агентами японских консульств.
Ближайшими опорными пунктами для их деятельности были японские поселения в Пхеньяне (300 японцев), Цзиннампо (700 японцев), Сондо (400 японцев), а с весны 1903 года и в Ичжоу.
Другие поступательные шаги Японии в этой части Кореи мы предпочитали не замечать. Даже захват японцами всего пароходства по реке Тадонгану между Пеньяном и Цзиннампо объясняли их чисто торговыми интересами и потребностями. Первое подозрение относительно истинных целей Японии зародилось у русских властей летом 1902 года, когда в Северной Корее появилась японская экспедиция, исключительно занимавшаяся съемкой местности и сбором сведений о численности ближайших русских войск.
В связи с этим решили бдительность проявить
«Изложенное свидетельствует, — говорилось во Всеподданнейшем докладе от 23 сентября 1902 года, — что японцы с лета нынешнего года, пользуясь теми или иными средствами, стремятся внести свое влияние в Северную Корею, где до последнего времени их почти совершенно не знали и где до сих пор господствовало влияние только России…
Нетрудно предугадать, что при их настойчивости и систематичности в выполнении намеченных задач, японцы, если им не противодействовать, в скором времени подчинят своему влиянию всю Северную Корею, которая таким образом приблизит их к Маньчжурии».
Но не надолго
Эти подозрения и опасения до некоторой степени рассеялись, когда пограничный комиссар в Южно-Уссурийском крае, действительный статский советник Смирнов высказал предположение, что появившиеся в Северной Корее японцы принадлежат к составу научной экспедиции профессора геологии Като, с которым были и японские офицеры.
Наш же посланник в Сеуле сообщил, что никаких специальных японских экспедиций в Северную Корею не отправлялось и что замеченные японцы могли быть частными агентами известного в Японии «Корейского общества» или даже корреспондентами какой-либо японской газеты.
Не напоминает вам это рассуждение почтенного действительного статского советника, равно как и почтенного посланника в Сеуле, известное место из весьма известного в свое время романа «Трудно быть богом»?
Когда в вечер перед «черным переворотом» в Арканаре Румата спрашивает у сменяемого им гвардейца: «…как относится благородный дон к тому, что происходит в городе.
Благородный дон, большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию дня святого Мики».
Учитывая, что один из авторов — японист и историю знает туго, то после чтения донесений советника Смирнова и камергера Павлова становится яснее, чем могла быть навеяна, в частности, столь талантливо описанная в романе сценка.
Наконец, вопрос о железной дороге Сеул — Ичжоу уже наглядно показал, что речь идет не о частных агентах или газетных сотрудниках, а что Северной Корее готовится та же участь, какая постигла и южную часть Корейского полуострова.
«Япония… имеет право и намерена настоять на своем праве, — писал Хаяси, — что если бы корейское правительство когда-либо пожелало отдать постройку названной линии в иностранные руки или ввести в это дело иностранный капитал, первенство в этом вопросе будет принадлежать Японии».
Ранее всех понял надвигающуюся угрозу К.И. Вебер — бывший наш посланник в Сеуле, один из подписавших знаменитый меморандум в мае 1896 года. Он советовал: «Если наши руки не связаны осложнениями на западе или другими соображениями», отказаться от выжидательной политики последних лет и устранить возможность подчинения Кореи японскому владычеству. И предложил ряд мер.
Однако положение сильно осложнилось по сравнению с 1896 годом. Вся часть Кореи южнее Сеула была уже прочно закреплена за японским влиянием, а в Северной Корее японцы постепенно пододвигались своими агентами и наблюдательными отрядами к пограничной черте. Как только во второй половине апреля 1903 года в Ионампо высадились первые партии русской артели, назначенной для работ на Ялу, японцы немедленно появились в самом Ичжоу, выдвинув, таким образом, наблюдение за нами уже на самую границу.
Корейский вопрос переходит в маньчжурский
Успехи, одержанные Японией в Корее, явились, между прочим, одной из причин той неожиданной для нас требовательности, которую она обнаружила в июле и августе того же 1903 года, когда начала свои последние переговоры с русским правительством.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: