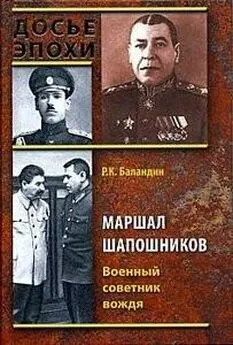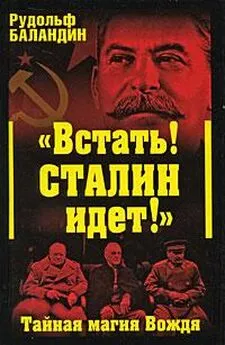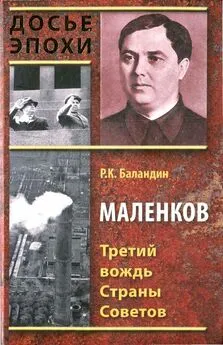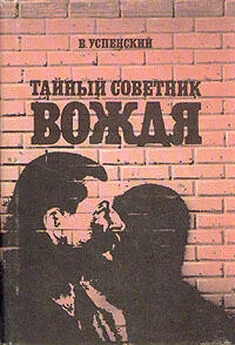Рудольф Баландин - Маршал Шапошников. Военный советник вождя
- Название:Маршал Шапошников. Военный советник вождя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9533-0866-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рудольф Баландин - Маршал Шапошников. Военный советник вождя краткое содержание
Книга Р.К. Баландина рассказывает о Борисе Михайловиче Шапошникове — Маршале Советского Союза, выдающемся советском военачальнике и военном теоретике. Б.М. Шапошников пользовался большим уважением Сталина, был единственным человеком, к которому генсек обращался по имени и отчеству, а в конце 1930-х годов Борис Михайлович стал одним из главных советников Сталина по военным вопросам.Б.М. Шапошникова называли «патриархом Генерального штаба». Будучи начальником Генерального штаба в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, Шапошников принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении планов Смоленского сражения, контрнаступления под Москвой и общего наступления войск Красной Армии зимой 1942 года
Маршал Шапошников. Военный советник вождя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
109
ния чувствующих нервов, притупления воспринимающих центров, извращения инстинктов, желания доставить себе достаточно сильные впечатления и значительного преобладания органических ощущений над представлениями; ложный реализм, вызываемый туманными эстетическими теориями и выражающийся пессимизмом и непреодолимой склонностью к скабрезным представлениям и самому пошлому, непристойному способу выражения».
Все это он называл печальным обозрением «больницы, какую ныне представляет если не все цивилизованное человечество, то, по крайней мере, высшие слои населения больших городов». Тот же диагноз вполне подходит к концу XX века и началу XXI века, и это явно свидетельствует о какой-то всеобщей психической болезни, поразившей современную цивилизацию потребления.
Словно подтверждая выводы Нордау, русский сатирик Арк. Бухов писал в 1913 году:
Каждый день, как ошалевший пьяный,
Бредит сном ужасной пустоты .
Всё безмолвно , даже балаганы ,
Где когда-то прыгали шуты .
Позабыться ? Многие б хотели,
Да куда , куда же нам идти ?
Так в глуши упрямые метели Заметают наглухо пути .
Более остро и точно высказался Саша Чёрный:
Разорваны по листику Программы и брошюры ,
То в ханжество , то в мистику Нагие прянем шкуры .
Славься, чистое искусство С грязным салом половым!
В нем лишь черпать мысль и чувства Нам — ни мёртвым уни живым.
Им подмечена та же духовная немочь, которая поразила и значительную часть современной творческой интеллигенции, удивительно бесплодной на подлинные произведения искусства и литературы, на новые открытия и концепции. Одна лишь существенная
110
разница: то, что прежде относилось к небольшой социальной прослойке, теперь характерно для широких масс интеллектуалов, служащих по разным ведомствам, включая науку.
Безверие и пустословие были представлены Сашей Чёрным как следствие разочарования в высоких идеалах, отсутствия цели в жизни, упадка воли:
Вечная память прекрасным и звучным словам!
Вечная память дешевым и искренним позам!
Страшно дрожать по своим беспартийным углам
Крылья спалившим стрекозам!
На этом фоне особенно ярко выделялись те, кто твердо верил в партийные программы, предполагающие радикальные преобразования общества во имя светлого будущего. Пусть эта вера в будущее мешала им хорошо понимать настоящее и тем более прошлое, но у них были ясные цели (пусть даже иллюзорные, фантастические).
Критики революционных идеологий обычно подчеркивают, что ими была затронута лишь малая часть общества. Это так. Но даже если на сто таких, о которых написали Арк. Бухов и Саша Чёрный, был десяток целенаправленных и убежденных в верности своих идеалов, то именно этой небольшой активнейшей и целеустремленной части суждено было направлять общественные процессы.
Начавшаяся мировая война на некоторое время хотя бы формально сплотила общество и приглушила революционные страсти. Однако постепенно, продолжаясь без заметных успехов, хотя и без больших поражений, она становилась все менее популярной, а затем и ненавистной. В стране начался хлебный кризис, продажа товаров по «купонам», повышение цен. У магазинов выстраивались очереди, потому что во многих городах периодически ощущалась острая нехватка продовольствия, особенно хлеба.
Трудности, которые испытывал народ, вовсе не затронули наиболее обеспеченные слои населения. «В этом году, — писал в конце 1916-го “Петроградский листок”, — наш тыл остался без хлеба и мяса, но с шампанским и бриллиантами.
Рабочие, отдавая труд и здоровье отечеству, не находят, чем утолить голод, их жены и дети проводят дни и ночи на грязных мостовых из-за куска мяса и хлеба, и в то же время взяточники, блистая безумными нарядами, оскорбляют гражданское чувство пиром во время чумы».
Писательница Тэффи перечислила в фельетоне наиболее часто встречающиеся существительные и глаголы. Среди них были следующие: «Общество возмущается. Министерство сменяется. Отечество продают. Редактора сажают. Дороговизна растет. Цены вздувают. На печать накладывают печать. Рабочий класс требует. Пролетарии выступают. Власти бездействуют».
Ничего нет особенного в том, что граждане воюющей страны испытывают материальные затруднения, вынуждены переживать определенные лишения; естественно и то, что вводится строгая цензура. Кто не понимает, что приходится терпеть тяготы военного времени? А русский народ, как известно, один из наиболее терпеливых на свете.
Почему же тогда «общество возмущается»? Да ведь помимо всего прочего — «Отечество продают»! Спекулянты наживаются. Как писали петроградские «Биржевые ведомости» в начале февраля 1917 года: «Сотни, тысячи, а иногда и десятки тысяч рублей щедро швыряются к столу аукциониста». «В течение нескольких месяцев народились миллионеры, заработавшие деньги на поставках, биржевой игре, спекуляции. Пышно разодетые дамы, биржевики, внезапно разбогатевшие зубные врачи и торговцы аспирином и гвоздями». «Несмотря на высокие цены, которые продолжают все непрерывно расти, спрос на старинную мебель, фарфор, картины, бронзу и т.д. продолжает повышаться».
Столичный журналист Н. Брешко-Брешковский рассказывал в «Петроградском листке», что появились новые «ценители искусства» и покупатели художественных ценностей «от биржи, от банков, от нефти, от марли, от железа, от цинка, от всяких других не менее выгодных поставок. Лысые, откормленные, упитанные, с профилями хищников и сатиров, ходят они по выставке, приобретая не картину, не ту или иную хорошую вещь, а то или другое модное имя, не жалеют чересчур легко доставшихся денег и закупают картины целыми партиями».
(Не правда ли, словно вернулись те времена, и мы стали их свидетелями?) Подобные контрасты были отмечены многими, на эти темы велись бесконечные разговоры в очередях. Очереди превращались в общественные собрания и своеобразные митинги, где проходил негромкий, но жаркий обмен мнениями. Понятно, что разговоры и мнения были далеко не в пользу имущих власть и капиталы.
Знаменательно: в начале февраля 1917-го публика артистического петербургского подвала «Бродячая собака», привыкшая ко вся-
112
ким поэтическим вывертам, была шокирована хлестким выступлением Владимира Маяковского — «Вам!»:
Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и тёплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет ?!
Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду Подавать ананасную воду!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: