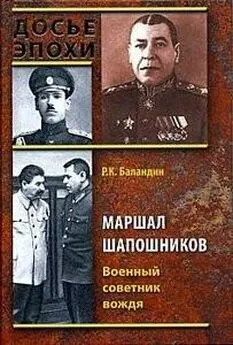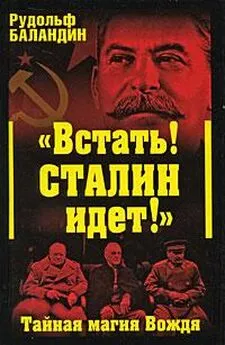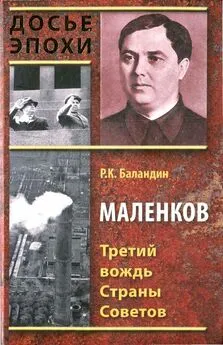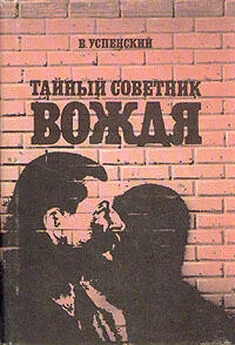Рудольф Баландин - Маршал Шапошников. Военный советник вождя
- Название:Маршал Шапошников. Военный советник вождя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9533-0866-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рудольф Баландин - Маршал Шапошников. Военный советник вождя краткое содержание
Книга Р.К. Баландина рассказывает о Борисе Михайловиче Шапошникове — Маршале Советского Союза, выдающемся советском военачальнике и военном теоретике. Б.М. Шапошников пользовался большим уважением Сталина, был единственным человеком, к которому генсек обращался по имени и отчеству, а в конце 1930-х годов Борис Михайлович стал одним из главных советников Сталина по военным вопросам.Б.М. Шапошникова называли «патриархом Генерального штаба». Будучи начальником Генерального штаба в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, Шапошников принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении планов Смоленского сражения, контрнаступления под Москвой и общего наступления войск Красной Армии зимой 1942 года
Маршал Шапошников. Военный советник вождя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прежде всего, пожалуй, по той простой причине, что он не стремился к высоким должностям, не был карьеристом. Идеалы белогвардейского движения — восстановление помещичьего строя, власть буржуазии — его не устраивали. Правда, и к большевикам большого доверия не было; их лозунги выглядели агитками, а коммунистическое бесклассовое общество, отказ от государственной системы и всемирная революция больше всего смахивали на утопию, несбыточные мечтания.
Однако значительная часть народа, солдатской массы пошла за большевиками, эсерами, анархистами. Укреплялась власть сторонников Ленина, устанавливался порядок — жестокий, революционный, но все-таки порядок, противостоящий хаосу и полной деградации российского общества. Следовательно, такой была форма народовластия. А Шапошников с юности привык ощущать свою близость к народным массам, а не привилегированным слоям. Недаром солдаты избрали его командиром дивизии.
Он выбрал служение народу, а не партии. Был готов сражаться в рядах Красной Армии с белогвардейцами. С ними у него оказалось слишком мало общего.
128
Сейчас, в начале XXI века, после активной двадцатилетней антисоветской пропаганды и восторгов по поводу царской России, а особенно ее «высшего общества», может показаться странным, непонятным, а то и нелепым выбор полковника Шапошникова. Он, «белая кость», представитель цвета российского офицерства, порвал со «своими», перейдя на сторону «темных масс», разрушителей великой империи.
Но, во-первых, Шапошников никогда не считал себя избранным по рождению; не был дворянином и никаких титулов, естественно, не имел. Особого уважения к подобным людям не испытывал. Судил о человеке по его личным качествам и поступкам. Сам добивался всего трудом, знаниями, отличной службой.
Во-вторых, свергли царскую власть «демократы». Один из главных идеологов Белого движения В.В. Шульгин вместе с военным министром А.И. Гучковым, принимая принудительно-добровольное отречение Николая II, завершил свое обращение к царю так:
— Только отречение Вашего Величества в пользу сына может еще спасти отечество и сохранить династию.
Царевич Алексей править не мог, тем более в столь судьбоносный для страны момент. Николай II предложил престолонаследие брату своему Михаилу Александровичу. Однако в Совете, несмотря на предварительное согласие, разразился скандал: «Не хотим Романовых! Да здравствует Республика!»
В конце концов и князь Михаил отказался принять даже временное управление державой до окончания военных действий. Тогда в Петербурге проходили бурные манифестации против войны и самодержавия, в поддержку Республики и Советов. Началось двоевластие (Совета и Временного правительства) и разброд, завершившийся Октябрьским переворотом.
Зная все это, Шапошников пришел к выводу, что единственная законная власть, поддержанная значительной частью народа, установилась в Центральной России: власть большевиков во главе с Ульяновым-Лениным. Вопрос лишь в том, сможет ли она укрепиться и остаться на долгие годы?
Казалось бы, самое разумное решение — выждать еще некоторый срок, чтобы убедиться, не свергнут ли вскоре большевиков. Но это было бы малодушием, достойным жалкого приспособленца, а не боевого офицера. Вот почему он написал генералу Пневскому о своем желании служить в «новой армии». Он не назвал ее так, как было тогда установлено на основании декрета Ленина — Рабоче-
129
крестьянская Красная Армия (РККА). Ведь ни он, ни генерал не принадлежали ни к рабочим, ни к крестьянам.
Нам приходится обстоятельно разбираться в том, почему Борис Михайлович примкнул к красным. Во-первых, это было решение, определившее всю его дальнейшую жизнь. Во-вторых, за долгие годы антисоветской пропаганды большинству граждан России вбиты в рассудок и даже в глубины подсознания чудовищно извращенные представления о революционном 1917 годе, Гражданской войне, Ленине и большевиках (о Сталине — и говорить нечего!).
«Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений».
Приведя это высказывание видного масона В.Б. Станкевича, соратника Керенского, современный исследователь С.Г. Кара-Мур-за приходит к обоснованному заключению:
«Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы, возродители убитой Февралем Российской империи — хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая В. Шульгина и даже Деникина».
Поистине тогда разверзлась пропасть между царским, а затем буржуазным правительством, между «хозяевами жизни», привилегированными социальными группами и русским народом. В.В. Шульгин — политик и журналист — так выразил свои чувства на тот момент, когда «черно-серая гуща», преимущественно солдат и горожан, ворвалась в Таврический дворец:
«Сколько их ни было, у всех было одно лицо: гнусно-животнотупое или гнусно-дьявольски-злобное.
Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе только одно тоскующее, бессильное и потому еще злобное бешенство.
Пулеметов — вот что мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать в его берлогу вырвавшегося на свободу русского зверя.
Увы — этот зверь был его величество русский народ».
Нынешние богачи, а прежде всего их интеллектуальные лакеи твердят с возмущением, будто Ленин провозгласил лозунг «Грабь награбленное!», тем самым призвав темную и жадную народную
130
массу наброситься на священную частную собственность. Тут и задумаешься: да разве не надо отнимать у бандитов, воров и жуликов награбленные ими богатства?
Необходимо! Так делается в любой нормальной стране, где у власти не находятся жулики, воры и бандиты.
Другое дело — как осуществлять реквизиции. На этот счет Ленин давным-давно дал ответ: «После слов “грабь награбленное” начинается расхождение между пролетарской революцией, которая говорит: награбленное сосчитай и врозь тянуть не давай, а если будешь тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай».
А вот как объяснял происходивший стихийный бунт, грабеж, осквернение усадеб дворянин, глубоко ненавидевший буржуа:
«Почему дырявят древний собор?
— Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?
— Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: