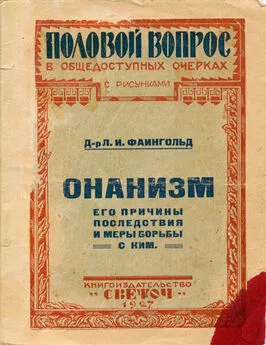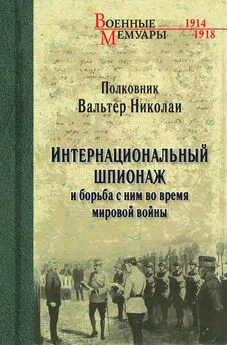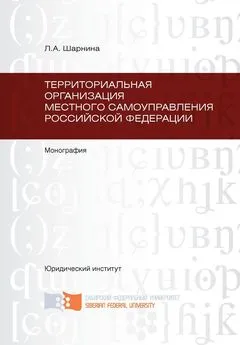Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)
- Название:Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-148-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Зверев - Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) краткое содержание
Монография предназначена для профессорско-преподавательского состава, аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) вузов, а также всех тех, кто увлекается историей иностранного шпионажа и отечественных органов государственной безопасности.
Иностранный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во-вторых, И. Никитинский и П. Софинов голословно утверждают, что германская разведка «проверяла лиц, намечавшихся к переселению, с точки зрения их политической благонадежности и преданности идеям германизма…» [93] Никитинский И., Софинов П. Указ. соч. С. 43.
.
Напомним, что в структуре III-Б отдела (центральный аппарат военной разведки) Большого Генерального штаба Германии были лишь подразделения, занимавшиеся добыванием разведывательных сведений и их обработкой. Об этом свидетельствуют крупные специалисты по истории германской разведывательной службы [94] Клембовский В. Указ, соч.; Резанов А.С. Указ, соч.; Звонарев К.К. Агентурная разведка. В 2 ч. М., 1931.
и мемуары ее руководителей [95] См., наир.: Николаи В. Тайные силы. Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны и настоящее время. М., 1925.
. Поэтому версия о причастности военной разведки к решению несвойственных ее профилю жандармско-полицейских задач представляется несостоятельной.
Противоречащей суждению о гипертрофированном характере шпионажа, которое послужило поводом для дискуссии, является вторая часть озвученного тезиса И. Никитинского и П. Софинова: «…Только после того, как германская разведка убеждалась в том, что "колонист" готов к выполнению ее заданий, ему предоставлялась возможность выехать из Германии…» [96] Никитинский И., Софинов П. Указ. соч. С. 43.
.
Попробуем разобраться с тем, насколько возможно сопоставить идею массовой заброски колонистов-шпионов в Россию с практикой их профессионально-персонального отбора в Германии.
На наш взгляд, привлекая соотечественников (потенциальных агентов из числа колонистов) к массовому сбору разведывательных сведений в чужой стране, офицеры немецкого Генштаба были бы не в состоянии уделять особое внимание их персональным параметрам: гендерным и возрастным отличиям, профессиональной принадлежности, роду занятий и пр. Отсутствие избирательности в вербовке, в свою очередь, не позволило б учитывать социальную разницу и интеллектуальные способности, мотивационно-волевую сферу, профессионально-психологическую пригодность и совместимость, морально-нравственные качества переселенцев. Да и можно ли было вести речь об «убежденности» хоть в ком-то из них, если советские историки говорили не об индивидуальной выборке кандидатов, а о проверке тысяч, десятков тысяч немцев (при условии реальности этой процедуры) на предмет полезности каждого из них делу разведки. Наконец, памятуя о версии про целенаправленное, но все же массовое внедрение немецких шпионов в приграничные районы России (если это на самом деле было так), следует констатировать, что данный процесс был бесперспективен. Неоднородная масса колонистов не смогла бы сохранить в тайне от социального окружения, русских административно-полицейских и военных властей ход своего сотрудничества с генеральным штабом иностранного государства.
В-третьих, указанные авторы допустили ошибку и неточность в определении ареала проживания немцев-колонистов и их численности в России к началу Первой мировой войны. В отличие от преобладания лиц этой категории в Прибалтийских, Привислинских губерниях и пределах Юго-Западного края (что в науке уже признано безусловным фактом), убежденность И. Никитинского и П. Софинова в массовом переезде немцев на Средний и Нижний Амур основана на неверных рассуждениях или литературном вымысле. Придерживаясь этого мнения, приведем лишь некоторые данные статистики по Приморской и Амурской областям. В 1911 г. в Приморье из 4 083 иностранцев (без учета китайцев и корейцев) немецких подданных было всего 239, а вот японцев 3 247 человек – в 13 раз больше, чем немцев [97] Приамурские ведомости. 19 января 1912. № 1806. Бесплатное приложение.
. К началу 1913 г. на 69 558 жителей Благовещенска приходилось лишь 154 европейца [98] Амурский листок. 13 февраля 1913. № 1376. С. 3.
.
Неоднозначное толкование вызывает и тезис о том, что вследствие «интенсивного насаждения немецких колонистов России» в преддверии Первой мировой войны их число составило 2 000 000 человек. Уверенность в этом множестве безусловна, если речь идет не только о переселенцах, а обо всех прибывших в Россию подданных кайзера Вильгельма II. В соответствии с выводами И.К. Агасиева и А. Приба, общее количество немцев в России конца XIX – начала XX в. действительно достигло 2 000 000 – 2 500 000 человек [99] Агасиев И.К. Указ. соч. С. 159; Приб А. Указ. соч. С. 57.
.
Если же мы учитываем лишь колонистов, то обсуждаемый показатель чрезмерно преувеличен. Как видно из периодической печати, на Дальнем Востоке состав немецких переселенцев был невелик, тем более они не доминировали в регионе. Кроме того, по данным на 1897 г., в Тобольской губернии немцев-колонистов было не больше 1 000 человек [100] Шкаревский Д.Н., Посохов В.Г. Тобольские немцы во второй половине XIX – начале XX в. // Вопросы истории. 2009. № 12. С. 65.
. Значительно меньше немцев, чем это принято считать, было зарегистрировано в крупных военно-административных центрах, приграничной полосе и близ стратегических объектов Юго-Западной Сибири. По документам полиции, в Омске и его окрестностях в 1910 г. проживал 71 германский подданный [101] Подсчитано автором. Источник: Государственный архив Омской области (далее – ГАОО). ф. 14. оп. 1.д. 1242. л. 632–653.
. В Акмолинской (Кокчетавский и Петропавловский уезды) и Семипалатинской областях и местностях, прилегающих к Транссибирской железной дороге, немцев оставалось немного: к концу первого десятилетия XX в. русские власти стали препятствовать немецкому расселению (немцев признавали «вредоносным элементом») [102] Вибе П.П. Указ. соч. С. 30–31; Охотников А.Ю. Немцы Северной Кулунды: стратегии и результаты социокультурной адаптации (1910-1960-е годы). Новосибирск, 2012. С. 24.
.
Большая часть немцев-колонистов не стремилась за Урал, а компактно расселялась в Европейской, Юго-Западной и Центральной России. Да и общее число немецких переселенцев в стране было не столь велико.
Если же вслед за И. Никитинским и П. Софиновым придерживаться мнения, что немцы-колонисты составляли многочисленную этноконфессиональную общность и каждый колонист был прямо или косвенно задействован в сборе военных сведений в пользу Германии, то эта гипотеза представляется не только необоснованной, но и просто нереалистичной.
Анализ показателей деятельности разведывательных и контрразведывательных отделений военного министерства России, а также органов правосудия убеждает в том, что иностранные (в частности, немецкие) шпионы разоблачались, арестовывались и привлекались к судебной ответственности, но в несоразмерных указанному двухмиллионному индексу пропорциях. К примеру, в Варшавском военном округе, как видно из материалов отчетности штабной разведки, с 1900 по 1910 гг. по подозрению в шпионаже были задержаны 110 германских агентов [103] РГИА. ф. 1278. оп. 2. д. 2270. л. 23.
.
Интервал:
Закладка:
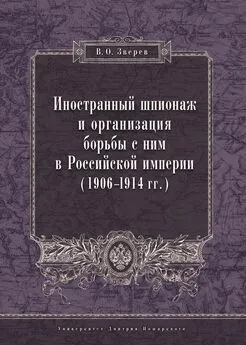
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)