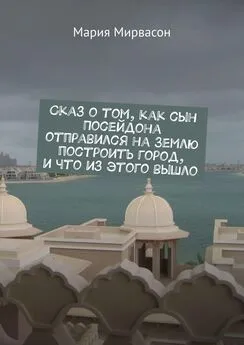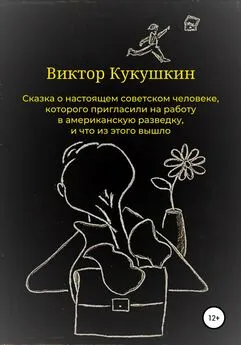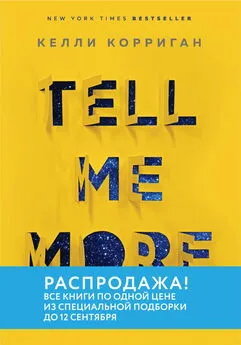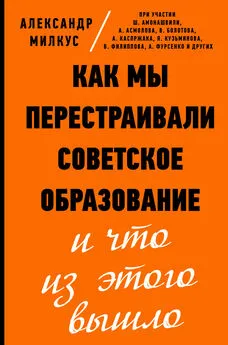Игорь Нарский - Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности
- Название:Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0895-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Нарский - Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности краткое содержание
Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло. Культурная история советской танцевальной самодеятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В репертуаре самодеятельных танцевальных групп классика и ритмопластика были потеснены танцами народов СССР, темы дружбы народов и счастливого советского села стали ведущими в сюжетных танцах. Репертуар и хореографический стандарт отныне строились на упрощенных основах классического, историко-бытового и характерного танца. Формирование репертуарного канона сопровождалось ростом его однообразия.
Последний большой период в развитии художественной самодеятельности отмечен ее небывалым взлетом и поступательным упадком ее традиционного, наиболее зрелищного, музыкально-хореографического сегмента. К середине 1970-х годов в танцевальной самодеятельности Советского Союза участвовало более 0,5 млн человек. Десятилетием позже численность самодеятельных танцоров в СССР, объединенных в 90 тыс. хореографических коллективов, достигла, согласно официальной статистике, 1 млн [36] См.: Пуртова Т.В . Танец на любительской сцене… С. 136, 140, 142.
. Ориентация хрущевского партийно-государственного курса на повышение благосостояния населения, на творческие инициативы снизу, на построение в обозримом будущем коммунистического общества, на сокращение рабочего дня и увеличение времени на досуг – все это привело к ряду государственных мероприятий по укреплению материальной и кадровой базы художественной самодеятельности в 1950-е и 1960-е годы. В 1960-е начала функционировать система подготовки руководителей самодеятельных хореографических коллективов в институтах культуры и культурно-просветительных училищах. Реорганизованы и усилены методические службы. Более плотной стала сеть смотров и конкурсов. Всячески поощрялась гастрольная деятельность самодеятельных танцоров. Для наиболее успешных из них организовывались турне в социалистические и даже в капиталистические страны.
Отчасти параллельно с перечисленными выше тенденциями, отчасти чуть позже стали обнаруживаться симптомы, угрожающие прежнему триумфу традиционной сценической народной хореографии. Структура самодеятельных танцевальных коллективов стала более дифференцированной: наряду с традиционными ансамблями народного танца, хореографическими кружками для детей и взрослых все большее значение стали приобретать студии классического танца, народные театры балета. Но наибольшую конкуренцию музыкально-танцевальным зрелищам сталинского образца составили студии и ансамбли бального и эстрадного (а затем и спортивного) танца. Это стало одним из проявлений более общей тенденции к понижению авторитета и эффективности «государственной» самодеятельности и развитию альтернативных ей форм.
Одновременно росло идеологическое, цензурное и бюрократическое давление на самодеятельность. Цензура репертуара со второй половины 1960-х годов ужесточилась, что вело к «окаменению» сталинского хореографического репертуарного канона. Смотры самодеятельности оказались под более ощутимым бюрократическим контролем из-за нараставшей регламентации конкурсных процедур.
Руководители самодеятельных танцевальных коллективов противостояли идеологическому прессингу самым надежным способом – молча саботируя распоряжения. Благодаря исследованию Ф. Герцога о народном искусстве в советской Эстонии известно, что учебные планы по проведению обязательной политико-воспитательной работы с участниками самодеятельности систематически игнорировались. Усиливавшееся давление сверху смягчалось невыполнением установленных бюрократических правил клубными работниками среднего и низшего звена.
Болезненным ударом по самодеятельности стало сокращение ее финансирования. Партия под лозунгом экономии и рационализации бюджетных расходов в 1970-е годы регламентировала концертную и гастрольную деятельность самодеятельных коллективов, тем самым понизив ее привлекательность для реальных и потенциальных участников.
Так, в самом сжатом виде, выглядит история триумфа и падения советского проекта художественной самодеятельности, которую позволяет очертить современный уровень ее изучения. Я постарался коротко изложить ее, чтобы, во-первых, сориентировать читателя в объекте исследования. Во-вторых, чтобы читатель мог обозреть «стартовые возможности», с которых я двинулся в многолетний исследовательский марафон. В-третьих, чтобы ему было яснее, чтó не устроило меня в состоянии исследования самодеятельной хореографии. Наконец, в-четвертых, чтобы читатель мог увидеть, к каким результатам я пришел в собственном исследовании, насколько они новы или полезны для понимания советской истории и культуры в общем, а также для дальнейшего изучения проекта советской художественной самодеятельности. Первые две задачи выполнены. Пора перейти к двум последним.
К каким результатам привело исследование?
Исследования последних лет и десятилетий, посвященные истории советской (танцевальной) самодеятельности, помогают представить себе общую картину ее развития и решают, в зависимости от постановки вопросов, специальные задачи. Однако мне не удалось найти в них внятных ответов на ряд вопросов. Прежде всего это касается исторического контекста интересующего меня феномена. Под влиянием каких обстоятельств и конъюнктур формировалось, развивалось и менялось хореографическое любительство в СССР? В работах советско-российских хореографов и культпросветчиков, специально ему посвященных, самодеятельная хореография представляется неким небесным телом, летящим в безвоздушном пространстве. Партийные и государственные решения в лучшем случае упоминаются в самом общем виде, часто – без возможности их идентификации. Чем они мотивировались и какую роль играли в истории самодеятельности? И каковы были механизмы их воплощения в жизнь? Существовала ли целостная культурная политика, и насколько создававшаяся ею рамка была просторной для художественного творчества самодеятельных хореографов? Какую роль в формировании и реализации культурной политики в области хореографии играли СМИ, профессиональные хореографы, работники культпросвета и сами танцоры-любители? Последние вопросы диктовались культурно-историческим интересом к «субъективной реальности» [37] О «субъективной реальности» как об одной из несущих конструкций теории, согласно которой действительность представляет собой продукт социального конструирования, см.: Бергер П., Луккман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995.
исторических акторов – к их восприятию и интерпретациям самодеятельной хореографии, мотивам заботы о ней или того или иного участия в ней. За процессами хотелось увидеть «нормальных» людей. Таковы основные мотивы – поиск контекста и человека, – которые пробуждали и поддерживали мой исследовательский интерес.
Интервал:
Закладка:
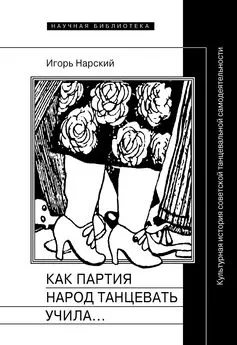

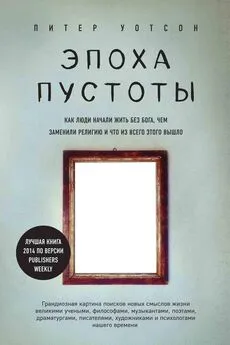
![Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1057298/aleksandr-milkus-kak-my-perestraivali-sovetskoe-ob.webp)
![Кэролайн Уилльямс - Мой продуктивный мозг [Как я проверила на себе лучшие методики саморазвития и что из этого вышло]](/books/1096012/kerolajn-uillyams-moj-produktivnyj-mozg-kak-ya-pro.webp)