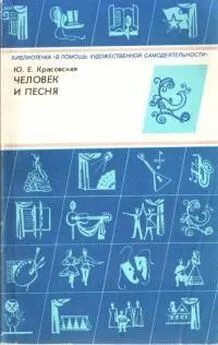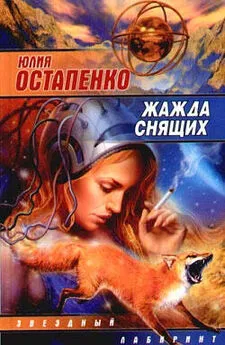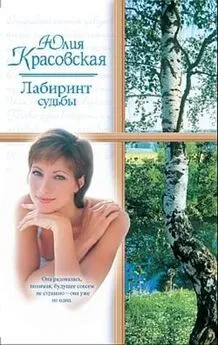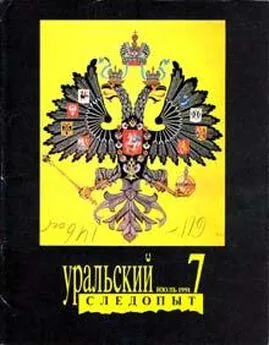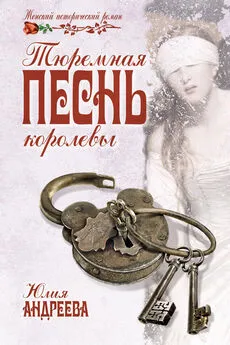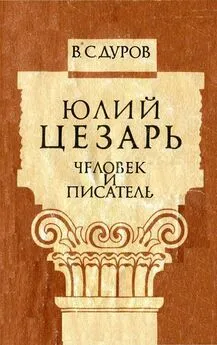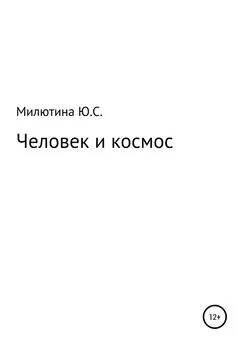Юлия Красовская - Человек и песня
- Название:Человек и песня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1989
- Город:М
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Красовская - Человек и песня краткое содержание
Самодеятельные фольклорные коллективы (детские, молодежные, взрослые) найдут в книге колыбельные, детские, игровые, протяжные лирические песни, исторические, хороводные, былину... Такие шедевры терского песенного искусства, как хороводная-игровая «Во лузях» и многоголосное эпическое полотно «Москва» («Город чудный, город древний»), в течение уже многих лет украшают репертуар известного самодеятельного ансамбля «Россияночка» ДК АЗЛК и теперь могут приумножить славу любого профессионального хора.
Автор освещает многие стороны крестьянской жизни, специфики народного творчества, подходит к собиранию и изучению фольклора как к комплексной проблеме народоведения.
Человек и песня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(«А дале вот нипоцём не помню. Как-то тут у Кузьмы была шашка, а у богатыря-поединщика — меч. Как-то Кузьма скоцил с коня, у ёго етот меч выхватил, да созади, со спины ёму голову-ту и срубил... Нечестно, видишь... Ну, а дале — делать-то нецего — царь за Кузьму доцерь свою, царевну отдал да царство ему дал. И стал царствовать, стал царем неправедным, не сильным, не мудрым, несчастным, не добрым, а хитрым. А вот по-настоящому сказать николько не замогу. Из памяти выронилосе».
Сашенька и Федорушка смеялись над приключениями Кузьмы Серафонтовича — комического богатыря, променявшего честный труд землепашца на сомнительные «подвиги» и сладкую жизнь в иноземных царствах-государствах...
А вот уже выросшие (совсем невесты!) неразлучные подружки Сашенька Чурилова и Федора Коворнина в начале 1920-х годов ходят по вечерам в школу, на репетиции молодежного драмкружка, который ведут учитель Вениамин Николаевич Попов и Ефим Никифорович Коворнин (племянник местного летописца Коворнина Николы Ивановича и дядя Сашеньки)... С упоением играют «Грозу» Островского, «Гамлета» Шекспира... Новая жизнь пришла и на далекое Беломорье. Шире раздвинулись горизонты. Зорче стали глаза. Острее и смелее мысли. Приблизилось пока еще им не известное, но конечно же прекрасное будущее. Поздно возвращаясь домой, чуть задерживают девушки-подростки шаг над уснувшей, кутающейся в зыбкие шали тумана рекой. Мечтают. Глядят с крутого берега вдаль, за Успенскую сторону, где неярким жемчужным блеском отсвечивает лемех [109] Лемех — чешуйчатое покрытие крыши деревянными дранками, имеющими форму черепицы.
на воздушной главке созданного крестьянскими мастерами-умельцами чудо-храма, глядят за холмы, покрытые лесом, туда, где незакатная вечерняя заря с утренней встречается...
«Отгадай, Федорушка, що тако:
Зоря-зоряница,
Красная девица
По полю ходила,
Золоты клюци сронила,
Месяц увидал,
Ницё не сказал.
Солнцо увидало,
Золоты клюци подняло.
Що тако?» — «Роса, Олёксандрушка, роса...» Подружки тихо смеются от переполняющей их пока непонятной им радости и шепчутся о пригожем парне Льве, ладном, работящем, скромном и уважительном... Быть, ох, быть Олёксандрушке его «женою молодою, княгиней перво-брачною», как поется в свадебных песнях. Неспроста вот уж три года на всех посиделках и беседах Лев возле Сашеньки. Неспроста все чаще и чаще встречает он ее на узких деревянных пешеходных мостках, приглашает на уличных кружаньях-играх в пару себе:
Заюшко, мой серенькой,
Серенькой, мой беленькой!
Где ты, где ты, зайко, был,
Где ты, серой, спобывал?
Заюшко!..
Был я, зайко, во лесу,
Во ракитовом кусту...
Заюшко!..
...Однако завтра рано вставать. Скорей в душистое, пахнущее вянущими березовыми вениками и только что испеченным хлебом тепло родного дома. Спать... А утром за завтраком строгий голос матери: «Лёксандра! Вечор тебя просватали...»
Вспоминается, к старости особенно, ясно так вспоминается молодость. Что бы ни спросила я Александру Капитоновну о далеких тех годах и о том, как жили-были, или вот о том, как хор начинался,— все помнит, будто было это вчера.
«Перьвы зачинали ходить в хор в 1935 году я, да сестра моя Клавдея, подружка Федора Николаевна Коворнина, да невестка моя Ольга Мефодьевна, да Настасья Никитишна, да Онисья Рогозина с Катериной Агафоновой, да еще там сколько ле наших. Я запевала. Хор-от организовал дядя мой Ефим Никифоровиць Коворнин. Сам гармонистом был. Слух у него, беда, хорошой был. Неправильно кто споет словечко едино — перепой! Строгой был. Выступали и в колхози у себя, и в районе, на олимпиадах».
Так и получилось, что жизнь Александры Капитоновны прочно вплелась в историю и судьбу замечательного Варзужского хора.
Многолетняя практика показывает, что лидер всякого песенно-хореографического фольклорного коллектива, как правило, обязательно является незаурядной личностью. Это в полной мере относится и к Александре Капитоновне Мошниковой. Ее стремление к реализации своих наставнических способностей и возможностей проявляется постоянно и многогранно. С каким бы вопросом к ней ни обратились, у Капитоновны всегда находится верный, мотивированный и, главное, практически выполнимый совет — касается ли дело хозяйства или подчас сложных нравственных перипетий личной жизни, выбора ли будущей профессии или реставрации для варзужского хора почти забытой, но очень ценной старинной песни и подлинной народной хореографии. Трудно вообразить такого человека или событие, до которых ей не было бы дела. С отроческих лет была Александра Капитоновна человеком творческим и общественницей, хотя тогда еще и понятий подобных не было. Вот что она сама говорит об этом:
«Люди некоторы прежде стеснялись ходить в клуб, и в драматичеськой кружок, и в хор. Одна пошла взамуж да хор и бросила. Говорит: «Как в клуб похожу? Стыдно». — «Нисколь, — говорю я ей, — не стыдно». А в войну-ту одна соседка на меня заругаласе: «Не стыдно тебе, Олёксандра, песни-ти ходить в клуб петь? У тя хозяин на фронти, под пулями». — «Нисколь не стыдно, — говорю. — Пить вино было бы стыдно, гулять стыдно, сплетни собирать по деревни стыдно, от дела лытать стыдно. А петь не стыдно. Плохо нам жить, тяжело. Серьцо болит за народ, за мужовей наших на фронти, тяжко трудимся, а запоешь — серьцо-то радостью и надеждой затеплеет.
А до войны, в 1939 году, ехали в район на смотр, да пришли меня созывать запеть. А у меня уж было пятеро детей, да Сашка маленькой, да Валентиной тяжела была. А муж-от, хозяин, говорит: «Поди ты, поди, Лёксандра. Люди ведь просят. Я уж с робятами справлюсь». Уж не унимал, не обижался, што хожу, запеваю, да уезжать приходится, выступать. И с войны писал письма, тоже писал: «Ходи, пой, душу отогревай...»
Нет у Александры Капитоновны специального образования, но с лихвой восполняет она его природной талантливостью и глубоким умом. Например, не зная музыкальной грамоты, она может разобраться в одноголосной записи незнакомой песни. «Вот я нот-тих так-то не знаю, а ежели дадут мне ноты со словами — сдогадаюсь, какова песня. Спою мотив... Как? А вот гляжу, гляжу и зачинаю понимать, що тут повыше, а тут — тоже повыше, но поменьше того, а уж тут — пониже. Помучишьсе — всему научишьсе», — смеется Капитоновна.
Руководителем хора и запевалой его она стала перед войной. Потом сменила ее сестра Клавдия Капитоновна Заборщикова, сейчас же запевала — Евстолия Васильевна Гурьева. Но без Капитоновны хор — не хор.
«И чехи сюда в Варзугу к нам приезжали хор слушать, и финны гостили, коли не ошибусь, — рассказывает Александра Капитоновна. — В Ленинграде на годах вторую уж грампластинку наши записали. И все пишут, пишут в газетах да в журналах...» «А вы статьи эти не собираете?» — «Как не собирать! Которы присылают, собираю...» — «А можно посмотреть?» — «Да вон там в горницы, под зеркалом лежат. Гляди — не убудёт...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: