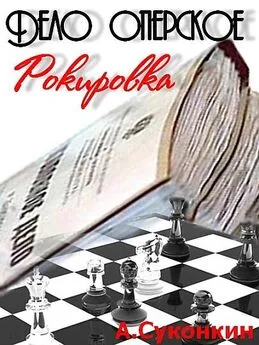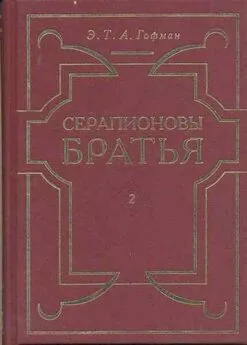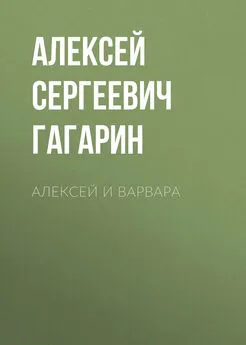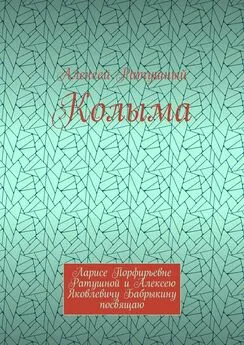Алексей Мунипов - Фермата
- Название:Фермата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-239-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Мунипов - Фермата краткое содержание
Фермата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вы все время возвращаетесь к образу «широкой публики», которая не сразу оценит, не всегда поймет. А на самом деле хотелось бы, чтобы оценила и она?
– Как пел Егор Летов, «если б я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков». Вот и я себя не выбирал, как-то жизнь это сделала за меня. Меня никогда не заботили статус, успех, жизнь в мармеладе, ну и чужое мнение по поводу собственной музыки тоже. Я пишу, как Стравинский говорил, «для себя и своего гипотетического альтер эго». Или, как мой коллега Борис Филановский это перефразировал, «для себя и того парня». Есть ли этот парень в аудитории, среди «широкой публики» – неизвестно. При этом существуют, конечно, профессиональные критерии, и мне очень важны мнения коллег, которым я доверяю. В прикладных сочинениях, скажем в театре, – важно мнение команды. Там важно решать не только свои, но и общие задачи, их надо постоянно боковым зрением отслеживать. Есть мои представления о режиссере, о пьесе, о том, какая публика ходит в этот театр, и из этого пазла складывается работа. Но в ситуации «пиши что хочешь» я не могу представить себе зрителя. Невозможно хотеть понравиться. По гамбургскому счету, только моя внутренняя самооценка мне и важна.
– То есть когда вы сидите в зале и слушаете, как публика аплодирует вашему сочинению, ваше сердце не расцветает розами.
– Это приятно, это как бы бонус, но я работаю не для этого. А если кричат «браво» недостаточно громко или аплодисменты жидковаты, то что тогда – ноты в помойку? Бывает так – пишешь вещь, ни на что вообще не рассчитывая, типа «да кому это нужно», а потом бах – и вдруг успех. Так случилось с оперой «Проза»: она внезапно вошла в репертуар «Электротеатра», на нее хорошо продаются билеты, у нее сложилась довольно благополучная биография. Хотя про эту оперу нельзя сказать, что она в стиле «новая прелесть» – этот термин придумал Леша Сысоев, мой друг и прекрасный композитор.
– У этого вашего альтер эго вкусы шире, чем у вас?
– Это тот незнакомец, который всегда сидит внутри нас и ведет с нами бесконечный диалог. У одного моего приятеля была песня со строчкой «вечно жующий жадный рассудок». Вот это он – очеловеченный рефлексивный зуд. А почему я такой, а почему другие такие. Присутствие этого незнакомца ты постоянно ощущаешь, но описать его довольно сложно.
Вообще, себя сложно анализировать. Я не знаю, где заканчиваюсь как слушатель и начинаюсь как композитор, мы же в одном теле, у нас один мозг, один опыт. Конечно, я пытаюсь отстраниться… Композитор – это ведь от латинского «составлять», во многом сугубо техническая профессия. Составить можно даже меню сегодняшнего ужина. Композиторы – всего лишь люди, мы хладнокровно высчитываем, просчитываем, любая, самая «нечеловеческая» музыка тщательно сконструирована. И Палестрина, и Бах сидели, считали, выписывали, еще как. Но понятно, что мы несем в себе собственный опыт и не можем из него выпрыгнуть. Даже дауншифтеры, которые уезжают в Гоа и притворяются детьми в пионерском лагере, вокруг которых только солнце, море и песок, в глубине души понимают, что все это обман. Может, через сто лет можно будет править мозг, одни воспоминания убирать, другие добавить, как герою Шварценеггера в «Total recall». А пока никак – из себя не выпрыгнуть.
Когда я пишу музыку, я не могу прекратить быть слушателем. И все равно есть что-то стороннее непознаваемое, что меня ведет. Даже в сухом процессе работы за столом есть загадка. Что-то неподвластное моему контролю.
– Проще понравиться себе или публике?
– Себе – сложнее. Я же не дурак, я понимаю, удалась мне вещь или нет. Это есть у всех. Бывает, состоявшийся известный композитор вдруг в частном разговоре кривится – а, это сочинение… Не хочу про него говорить. И оказывается, что и у него есть внутреннее недовольство – недотянул, недожал. А мне, допустим, оно нравится и кажется, что там все здорово. В каком-то смысле сочинения – как дети, принадлежат родителям только до определенного возраста. А потом – все, адью. Быть по отношению к своим вещам такой еврейской мамой, которая желает им только добра и никак не может отпустить, – хуже не придумаешь.
Музыка начинает жить своей жизнью, и в истории музыки есть много примеров, когда эта жизнь оказывается довольно неожиданной. Мы знаем, что «Кармен» провалилась на премьере. Потом был суперуспех, но началось-то все с провала. А Берг не мог понять, что он сделал не так, раз его «Воццек» был так благосклонно встречен публикой.
– Бывает, что думаешь про свою вещь: «Недотянул», а публика принимает на ура?
– Да. И, в частности, поэтому успех у публики в целом мне не очень важен, важна референтная группа. Бывало, что принимали удачно, а друзья и коллеги как-то многозначительно набирали в рот воды. И наоборот – прием холодный, а свои искренне хвалят.
Вообще, понятие успеха сегодня довольно условно, ведь мы живем в очень пестрых субкультурных средах. Вот есть протоиерей Иларион, священник с амбициями композитора, который печет как блины Страсти и разные околоцерковные сочинения. С моей – и почти всеобщей – точки зрения, это какой-то гламурный кошмар, фикция и пошлость, сделанная левой ногой. Но ее исполняет Спиваков в Большом зале Консерватории, в зале сидит культурный бомонд, по ящику ее транслируют. То есть формально это сверхуспешный композитор, и остается только гадать, что думает об этом буквальном воплощении андерсеновского голого короля его исполнитель – сам Спиваков. Ведь у него тоже есть уши. А по соседству, в Малом зале, совершенно другая публика слушает совершенно другое. А если вы полетите в Пермь на Дягилевский фестиваль, то окажетесь там, где невероятное значение придается антуражу, атмосфере – ночные концерты, утренние, в кроватях, под роялем, с танцами, какие угодно. И музыка в этих обстоятельствах воспринимается совершенно иначе. Все это какие-то разные галактики.
Мы сейчас очень раздроблены, типов восприятия – невероятное количество. Раньше ведь такого не было, был довольно обобщенный тип слушателя, и общий для всех, мейнстримный способ восприятия музыки. Критики и музыканты второй половины XIX века описывают его страшно подробно – достаточно почитать критические статьи и письма Стасова, Серова, Чайковского. А сейчас все атомизированы, на одной лестничной площадке могут жить люди с кардинально отличными представлениями о жизни. Наблюдать за этим невероятно интересно, но расчетливо подстроиться, не потеряв себя, мне кажется, невозможно.
– Можно ли, по крайней мере, описать, что сейчас происходит в современной музыке? Нет мейнстрима, нет заметных течений, но что-то же есть?
– Недавно в Санкт-Петербургском университете, где я преподаю, гостья из Вашингтона, виолончелистка и музыковед, читала лекцию «Современная музыка. Где мы сейчас находимся». У нее была красивая презентация в PowerPoint, как у всех американских профессоров, со схемами, таблицами. XX век с его бесконечными «-измами» у нее просто отлетал от зубов. А в XXI стройной картинки не вырисовывалось. Особенная проблема была с «-измами». Композиторов-то много, но таких, которые определяли себя через какое-то большое понятие типа спектрализма или сонористики, найти трудно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: