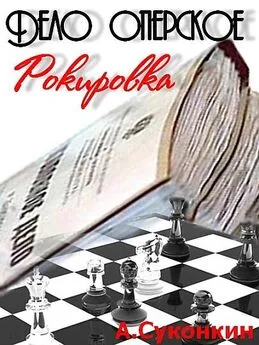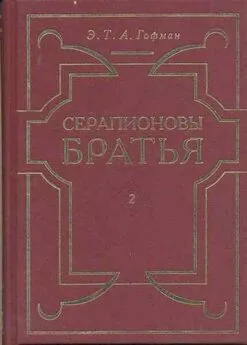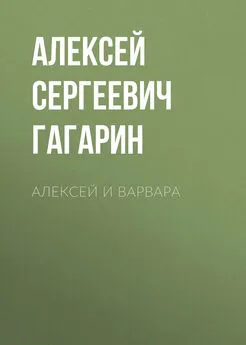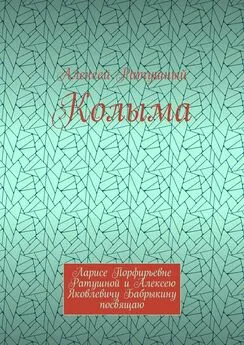Алексей Мунипов - Фермата
- Название:Фермата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-239-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Мунипов - Фермата краткое содержание
Фермата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Просто я слушал вашу знаменитую инструментовку «Утомленного солнца» и думал: что вам в этом может быть интересно, как композитору? Кажется, что вам это попросту очень легко должно даваться.
– Ну, не знаю, наверное, меня это просто заводит. Для меня сочинение, как я уже сказал, очень физиологический процесс. Я работаю за роялем, у меня с инструментом складываются личные отношения. Вот смотрите: у меня очень большое расстояние, «шпагат» почти, между большим и указательным пальцами. Значит, под пальцами рефлекторно оказываются не вполне стандартные расположения аккордов… Танго – мой мутный объект желания, я буквально обнимаю и разнимаю его. Если вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте, вы меня поймете.
– Вы говорили в интервью, что в профессии вам ближе всего подход ремесленника, но то, как вы сейчас это описываете, не слишком похоже на отношения часовщика с шестеренками.
– Мы ведь в точности ничего не знаем про часовщика, про эти отношения. Странный предмет в глазу, монокуляр, то, как напряженно он сжимает его своими вéками… Произнесите вслух «фрезеровщик»: само это слово в своем фонетическом облачении содержит странные, сосредоточенные отношения человека с предметом. Фрезеровщик. Шерхебель. Рубанок. Благотворный автоматизм, приводящий к умиротворению в конце рабочего дня. Мы ничего про это не знаем. Мы с вами не фрезеровщики.
– Вы чуть раньше сказали про иронию, и это понятие вообще довольно часто с вами связывают. Что вы вообще про него думаете? Насколько оно важно для вашей музыки?
– Насколько я знаю, ирония – это такая сложная вещь, что не стоит даже заводить разговор на эту тему. Если мы начнем с Сократа, то не закончим никогда. Вроде бы в новой истории под иронией подразумевают что-то вроде глумления, это имеет какое-то отношение к юмору и сатире, да? Но, верите ли, мне это совершенно не свойственно. Я всегда серьезен. Да, временами имеет место некоторое отстранение от материала, мы чуть раньше говорили об этом в связи с советскими моделями, но это ведь не то же самое, что ирония, верно?
– Интересно, что сейчас попытки такого рода выглядят почти вызывающе. Это чувствовалось, например, на Дягилевском фестивале [в 2015 году]: когда исполняли вашу версию песни «Враги сожгли родную хату» из саундтрека к кинофильму «Москва», зал просто обмер. Пятнадцать лет назад на нее, конечно, никто так не реагировал.
– Честно говоря, я в этот момент думал только о том, что певица вступила не вовремя, а контрабасист не сразу это понял. Впрочем, этого, кажется, почти никто не заметил. Но да, что-то такое было. После нее, кажется, публика не аплодировала? Был какой-то неловкий момент.
– Это внезапно оказалась страшно крамольная вещь. Это же Блантер, память Победы, дедывоевали.
– Я, признаться, думаю об этом даже с некоторым удовлетворением. Мне, разумеется, отвратителен этот новый контекст, и в то же время вчуже интересно наблюдать, как он меняет смысл моих сочинений. Увы, я не могу объяснить людям, которых это якобы может оскорбить, что… Ну нет там никакой иронии. И пятнадцать лет назад не было. Но никакие аргументы не сработают. Им невозможно ничего объяснить. Они просто с другой планеты. Они идиоты.
– С какими еще сочинениями случилось что-то похожее?
– С «Зимой священной 1949 года». Это самая моя монументальная вещь. Оркестр, хор, в первой редакции орган, солисты. Задумывалась она как некая игра в археологическую находку, смысл и значение которой неясны. Можете даже использовать ненавистное мне слово «постмодернизм». Весь советский континуум этой вещи, переведенный на английский язык с пионерским акцентом, [52] Симфония «The Rite of Winter 1949/Зима священная 1949 года» для солистов, хора и оркестра (2000). Основана на текстах советского учебника английского языка 1949 года издания, найденного композитором на даче друзей в Кратово.
– это некий артефакт, ключ к пониманию которого утерян. Идея понятна: это был конец 1990-х, и всем казалось, что Советский Союз исчез безвозвратно.
Но сейчас оказалось, что вовсе нет, не безвозвратно. В нынешнем политическом контексте эта вещь приобрела новое звучание. Для тех, кто ее услышит сейчас, она будет звучать не так, как в начале нулевых. Премьера состоялась в Йене, в бывшей ГДР, и вот как ее там слушали, что в ней слышали? Непонятно. В Виннипеге, где ее тоже исполняли, был большой успех, но что он обозначал, какую степень понимания? Позже симфония исполнялась в Санкт-Петербурге, и там реакция публики была иной, чем в Германии и Канаде. Я меньше всего хотел, чтобы «Зима» звучала как политический памфлет. Но пошлая реальность расставляет свои акценты.
– Вы упомянули постмодернизм – как вам кажется, это понятие имеет отношение к вашей музыке?
– Нормальный человек вообще-то противится навешиванию на него ярлыков. Ну кому нравится носить бейджик? Из бейджика вы узнаете имя человека, но ничего – о нем самом. Что касается самого этого термина: я, можно сказать, присутствовал при его появлении в России. Его ввел в русскоязычный обиход Александр Тимофеевский и чуть ли не первым напечатал его на страницах отечественной прессы. Это слово обсуждалось бесконечно; очень скоро стали писать и говорить, что постмодернизм закончился, потом оказалось, что он жив, и так далее, и так далее. Особого удовольствия это переливание из пустого в порожнее не доставляло. Силясь понять что-либо в отношении, например, Фассбиндера, я догадался, что совершенно не обязательно использовать расхожую терминологию, если ты уже обладаешь неким текучим знанием о предмете. Мне нравится мое собственное (возможно, смутное, не всегда вербализованное) представление о вещи, принадлежащей только мне одному.
– А склонность к цитатам? У Сорокина про вас есть такая строчка: «Чтобы рождать свое, ему необходимо мучительно заглядывать в чужое». Вы и сами говорили, что использование цитат для вас насущная потребность. Откуда она берется?
– Я думаю, это нужно всем композиторам. Чтобы начать работу, нужно от чего-то оттолкнуться; нужно нечто вроде макгаффина. Это не обязательно цитата или готовая формула. Это может быть интервал, тембр, ритм. Невозможно изобрести новый сложный ритм, он все равно будет состоять из простых сегментов. Этот вопрос – от чего именно оттолкнуться – не принципиален.
– Скажем, «Бедная Лиза» начинается с узнаваемого мотива из Шестой симфонии Чайковского. Что такого рода цитаты мне как слушателю должны сообщать?
– Они сообщают вам, что это не случайное совпадение. Что я сочинил три ноты, привел их в движение с помощью ритма и подумал: «Да, я знаю, чтó это напоминает», а потом решил – и пусть напоминает. В этом есть смысл: мотив непреклонного фатума из Шестой симфонии отлично вписывается в историю «Бедной Лизы». Видимо, так я рассуждал в двадцать лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: