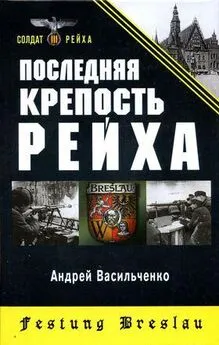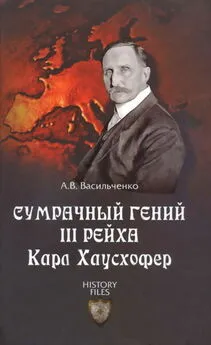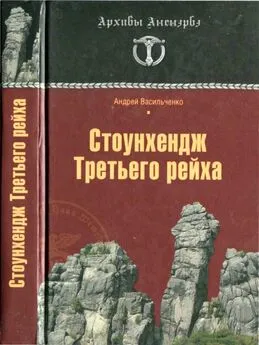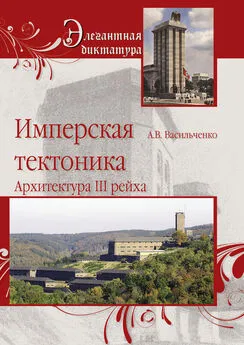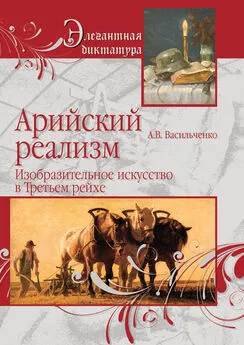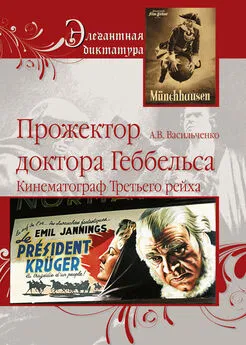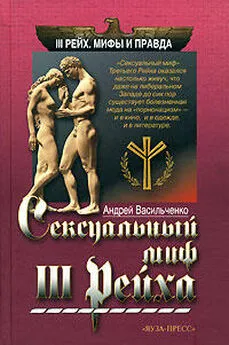Андрей Васильченко - «Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций]
- Название:«Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- ISBN:978-5-9533-3818-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Васильченко - «Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций] краткое содержание
«Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Казалось, что к началу 1939 года в Третьем рейхе была решена проблема шлягера. В национал-социалистическом понимании это значило, что песни смогли избавиться от «неполноценных глупостей» и «еврейской болезни». Известная немецкая пианистка Элли Ней говорила в связи с этим об «опустошительном воздействии дурных шлягеров», для создания которых не требовалось особых сил и талантов. Она требовала, чтобы «даже в музыке шлягеров чувствовалось стремление пробудить национальное самосознание». Судя по всему, немецкая пианистка была довольна идущими в Германии процессами. В любом случае она не без гордости цитировала одно из официальных сообщений «Штагма», в котором говорилось, что, скорее всего, иностранные шлягеры оказались выжитыми из Германии. Лишь единицы музыкантов, балансируя между политическими требованиями и успехом публики, могли обращаться к иностранным композициям. К таковым можно отнести песню Зары Леандер «Йес, сэр!» или песню Тео Макебена «Бель ами». По этому поводу приходилось давать некие комментарии. Так, например, Фриц Штеге писал: «У нас в Германии есть столь блистательные эстрадные композиторы, что мы можем в некоторых случаях не распространять на них наши требования ограничивать использование иностранной продукции».
К 1939 году шлягер уже больше не подвергался общественному осуждению, отношение к нему со стороны официальных структур сложно было назвать предубежденным или высокомерным. Даже «серьезные» музыкальные критики, например Фридрих Херцфельд, позволяли себе склоняться в пользу шлягера: «Невозможно серьезно обсуждать эту проблему, если в каждой строке предвзятой критики говорится о "сорняках" и "бациллах"».
Даже некоторые партийные функционеры понимали, что пресловутое «хирургическое вмешательство» (то есть исключительно репрессивные меры) не было в состоянии решить проблему популярной музыки. В министерстве Геббельса полагали, что ее надо было решать «творчески и продуктивно», то есть разбираться, почему тексты и музыка многих шлягеров были пошлыми и заурядными. Почувствовав подобные настроении (возможно, и с ведома Геббельса), в августе 1939 года «Эссенская национальная газета» опубликовала фельетон, который по своей форме был протоколом суда над шлягером. Обвиняемый «шлягер» должен был защищаться от обвинений «хорошего вкуса», который инкриминировал ему искажение классической поэзии, например стихов Шиллера и Гёте. В ответ звучало, что подобные черты обнаруживались во всех народных немецких песнях. Буквально неделю спустя Фриц Штеге со страниц «Популярной музыки» удовлетворенно возвещал о том, что каждая подобная дискуссия в будущем должна будет способствовать «повышению уровня шлягеров».
Имея за своими плечами поддержку Геббельса, Фриц Штеге в своей «апологетике шлягера» осмелел настолько, что летом 1939 года стал позволять себе критические выпады даже в сторону отдельных официальных национал-социалистических структур. В частности, он подверг острой критике газету «СА-манн» («Штурмовик» — не путать со «Штюрмер», изданием Юлиуса Штрайхера), которая была известна своей «недоброжелательной» позицией в отношении эстрадной музыки. В августе 1939 года «СА-манн» на своих страницах опубликовала статью, автор которой не только возмущался «триумфальным шествием массовой культуры», но и неслыханной и «возмутительной» поддержкой песни «Бель ами». Обвинения сопровождались целым рядом идеологических требований: «Мы хотим героического искусства, предназначенного для настоящих парней, а не какую-то приторную безвкусицу!» В ответ Фриц Штеге иронично отвечал: «Героизм пользуется заслуженной честью. Никто и не думает оспаривать героический характер нашего времени. Однако оперетта и киношлягеры не предназначены для описания нашей героической сущности… Мужественные образы должны демонстрироваться только там, где это будет целесообразным». Неизвестно, чем бы закончилась эта заочная перепалка, если бы не началась Вторая мировая война, которая смешала все карты эстрадным музыкантам и теоретикам легкой музыки.
ГЛАВА 6. СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ ИЛИ ВОЕННЫЙ ШЛЯГЕР?
Упоминавшаяся выше песня «Эрика» была первым немецким шлягером, которому, по словам Фрица Штеге, досталась «невообразимая честь звучать в радиопередачах наряду с армейскими маршами». Автором песни являлся командир музыкального взвода Имперской трудовой службы Гермс Ниль (настоящее имя Герман Нилебок). Он начал создавать прототипы «народных шлягеров» еще в 1938 году. Данные песни пользовались определенным успехом. Музыканта и композитора заметили, в том же самом 1938 году фон Гицюки назвал Ниля «прусским солдатом нашей музыки» и «композитором духа Потсдама». К тому моменту, когда на свет появилась «Эрика», Ниль уже имел за плечами несколько солдатских песен: «Как прекрасно быть солдатом», «Прощай, милая Аннемария» («Любимая, пока!»), «Выдох — вдох» и многие другие, которые характеризовались критиком как «исконно немецкие мелодии». Начавшаяся Вторая мировая война, которая сопровождалась повышенным спросом на военную музыку, позволила сделать Гермсу Нилю блестящую карьеру. Сам композитор не преминул воспользоваться возможностями, которые ему давало интервью, опубликованное в «Народном обозревателе». В этом материале он фактически прорекламировал свои музыкальные произведения: песни «Привал», «Письмо, пришедшее по полевой почте», «Марш трудовой службы». В данном случае популярность была тесно увязана с чисто экономическими выгодами. В одном из номеров «Популярной музыки» ему была выделена фактически целая полоса под рекламу старых и новых песен. А кроме этого его изображение появилось на обложке журнала. Аналогичным образом поступил и журнал «Немецкий подиум» — он тоже дал рекламу произведений Ниля.
В кратчайшие сроки «Эрика» стала синонимом солдатской эстрады. Собственно, это название песне в январе 1940 года дала «Веселая газета для фронта и для Родины» (было и такое издание), которая должна была поддерживать боевой дух немецких солдат при помощи «картинок, загадок, шарад и юморесок».
Песня оказалась настолько популярной, что по ее образцу стали создаваться другие. Один из журналов в те дни писал: «После "Эрики" появилась "Урсула" — походная песня Гарри Блюма». Подобные тенденции вызывали тревогу у некоторых немецких композиторов. Ганс Брюкнер писал по этому поводу: «Они идут в ногу со временем. Когда к композитору приходит успех, они быстро сочиняют похожую песенку, после чего провозглашают: после "Эрики" — "Урсула"! Черт знает что — суета с мятными лепешками».
Впрочем, своей популярностью в Третьем рейхе Герме Ниль был обязан отнюдь не «Эрике». Одним из ведущих «солдатских композиторов» его сделали переложенные на музыку стихи «Тогда мы выступаем против Англии». Эта «современная походная песня», которая возникла, по словам национал-социалистической прессы, «по велению сердца народа», была исполнена для вермахта впервые 15 октября 1939 года. Ее премьера состоялась в рамках «концерта по заявкам для солдат вермахта» (более подробно об этой передаче мы поговорим позже). Если «Эрика» по своему стилю была в большей степени маршем, нежели шлягером, то «английская песня» могла считаться настоящей боевой мелодией, даже если в ней сохранялись черты традиционного немецкого шлягера. В основу «английской песни» были положены матросские стихи Германа Лёнса. Причем это было отнюдь не инициативой самого Гермса Ниля. «Английская песня» стала своего рода заказом со стороны Генриха Гласмайера, в прошлом директора радиостанции Кёльна, который по партийной линии попал в руководство имперского радио. Хотя бы по этой причине популярность этой песни не была чудом — она активно поддерживалась и рекламировалась всеми консервативными и националистическими кругами Германии. Кроме того, издатель слов и нот песни Карл Вильке смог выполнить заказ в рекордно короткие сроки. В итоге в условиях националистической истерии от начавшейся мировой войны данное издание разлетелось фактически моментально. В данном случае можно говорить, что Ниль учел политическую конъюнктуру. Итогом подобной расторопности стало то, что мелодия «английской песни» Ниля сопровождала все сводки Верховного командования вермахта, в которых сообщалось о боевых действиях против британских войск. В условиях войны она стала одним из националистических символов Третьего рейха. После этого по радио уже вовсю зазвучали песни Ниля: «Как прекрасно быть солдатом», «Лизелотта», «Письмо». Но Ниль решил не успокаиваться, он лихорадочно работал. Принимая во внимание особенности войны, он сочинял «Песню о подводной лодке». Когда в мае 1940 года под стремительным натиском немецких дивизий капитулировала Бельгия, то в эфире почти постоянно крутилась «Французская песня» Ниля. Она как бы указывала, куда будет нанесен следующий удар — на запад, по Франции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Андрей Васильченко - «Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций]](/books/1088230/andrej-vasilchenko-lili-marlen-i-drugie-estrada.webp)