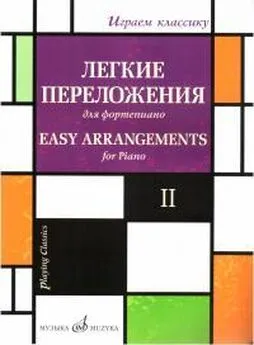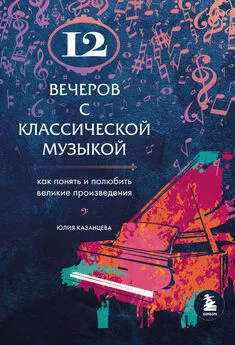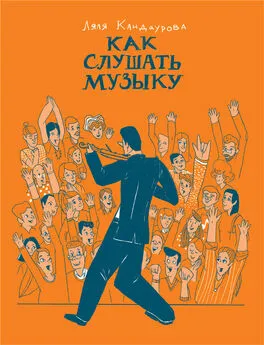Ляля Кандаурова - Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику
- Название:Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-1569-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ляля Кандаурова - Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику краткое содержание
Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аналогично то, что следует далее, кажется неопытному слушателю не связным драматическим рассказом, но скоплением звуковых фрагментов. Дело в том, что сонатная форма, разработанная классиками в XVIII в., заимствующая у искусства театра и риторики, основывалась на конфликтном сопоставлении двух тем, их последующей разработке и приведении их к завершающему синтезу. Взаимная напряженность двух этих тем, как двух полюсов, создавала пространство для конфликта и повод для развития, после чего на наших глазах они, словно поспорив, приходили к согласию, и первая часть симфонии естественным образом завершалась. Сонатная форма – традиционная для первых частей европейских симфоний начиная с конца XVIII в. – формально присутствует и у Брукнера. Однако он делает все, чтобы развалить ее опрятную классицистскую архитектуру: этому способствуют чудовищные масштабы, бессвязность нарастаний и спадов, абсурдные «парящие» кульминации, представленные не в виде пиковой точки, венчающей развитие, а в виде бесконечного плато, иногда длящегося так долго, что слух успевает забыть обо всем, что к нему привело. В результате, масштабами и величием вызывая ассоциации с грандиозным собором, симфония Брукнера постоянно обманывает наши ожидания: она кажется лишенной каркаса, пропорции, взвешенности, то есть того, чего мы в первую очередь ждем от архитектурного сооружения.
Это касается всей симфонической музыки Брукнера, а первая часть Восьмой – яркая тому иллюстрация: начальная звуковая зыбь, простейшие Tonworte [228] Буквально «звуко-слово» ( нем .).
– музыкальные «слова», интонации-зовы – куски гамм, двух- или трехнотные мотивы, к тому же бесконечно повторяющиеся, кульминационный катаклизм посреди части и следующий за ним похоронный, уничтоженный пейзаж, в котором со страхом обнаруживает себя слушатель, никак не складываются в компактную динамичную историю, обнаруживая не больше связности и причинно-следственных тяготений, чем изменчивый вид из окна несущегося поезда.
Протест, который испытывает слушатель, связан со сломом привычного сценария: твердыня, выстроенная на зыбком песке, отсутствие ясно очерченного «действия» и «противодействия», расстроенная, «неправильно работающая» физика повествования. Причем если в остальных симфониях Брукнера, где первые части кончаются протяженными апофеозами, мы еще можем пытаться рассматривать их как итог предшествовавшего развития (хотя оно не дробится на фазы и не устремлено к этому итогу непосредственно), то в первой части Восьмой, где финальные 17 тактов разрывного до мажора были изменены автором на «часы смерти», слушатель испытывает недоумение: сюжет останавливается, замирает вне всякой связи с уже пройденной дистанцией. Особенно мощная фрустрация ждет нас в последних частях брукнеровских симфоний: их венчающие разделы – грандиозные коды финалов – написаны так, что никоим образом не намекают на то, что им вообще что-то предшествовало. Более часа бессистемно водя нас по горному ландшафту, перед заходом на последний пик Брукнер как бы начинает с нуля: мы снова слышим постепенный рост чего-то из ничего, как в начале симфонии, и понимаем, что грядущая кульминация – не разрешение драмы; это еще одно утомительное восхождение на вершину, которое будет отличаться от всех предыдущих лишь набранной высотой.
Как идет время в симфониях Брукнера
Здесь необходимо вспомнить, чем являлась симфония для немецкого романтика: начиная с Бетховена симфонический жанр представляет собой декларацию видения мира и жизненной позиции автора (он не был таким для классиков XVIII в., трактовавших симфонию как в гораздо большей мере развлекательный или официально-парадный жанр). Симфония как «мышление о мире» [229] Выражение К. В. Зенкина.
– изобретение исключительно романтическое, и в этом смысле Брукнер – образцовый романтик. В каждой из своих симфоний он стремится охватить мироздание целиком, поэтому они начинаются с зарождения материи и завершаются ослепительной длинной вспышкой; поэтому он не может себе позволить говорить в них о частной истории, личной борьбе или любви. Они должны вмещать все время и все пространство, поэтому не могут развиваться направленно, как взрослеет и мужает герой романа, но вынуждены поддерживать цельность иначе: как в природе, где все кажется хаотически разобщенным, случайным, само собой происшедшим, на самом деле царит глубокая, невидимая внутренняя связь, так и в симфонических колоссах Брукнера правит бал своя логика – но это не логика человека.
Приблизиться к ней можно, если вспомнить, что Брукнер услышал музыку классиков уже взрослым, а своих современников-романтиков – уже зрелым человеком. Он сформировался среди старинной музыки – барокко и более ранней; среди музыки, далекой от элегантных ораторских построений классицизма, далекой от театральной или романтической сюжетной динамики; среди музыки состояний, а не действий. Поэтому у Брукнера нет благородных, «мускульных» кульминаций брамсовского типа, звучащих как достигнутая вершина, нет чувственных вагнеровских кульминаций, похожих на достижение эротического экстаза; его кульминации звучат как осанна или «Dies irae» [230] См. «Как появился стандарт реквиема» в главе о Генрихе Бибере (часть I «Реквиемы»).
, знаменуя собой не результат пути, а состояние, которое всегда было и всегда будет. Драматургия старинной духовной музыки устроена таким образом, что эффект протекания времени в ней до предела ослаблен [231] См. «Kyrie eleison» в главе о Йоханнесе Окегеме (часть I «Реквиемы»).
, если под временем понимать однонаправленную, устремленную вперед линию, где в логической связности расположены события. Но можно посмотреть на него иначе: например, существует понятие «мифологическое время», которое представляет время как «одновременность всех событий в мире, то есть восприятие временнóй среды как покоящейся длительности» [232] Светлов Р. В. Формирование концепций времени в древнегреческой философии: Автореф. дис. на соискание уч. степ. к. ф. н. Л., 1989.
. Эта «покоящаяся длительность» – удивительно точное отображение брукнеровской драматургии – расфокусированной, перепутавшей местами процесс и разрядку [233] Об этом прекрасно пишет С. Е. Антонова: http://www.e-culture.ru/Articles/2007/Antonova.pdf .
. Действительно, если принять, что процесс становления – это и есть результат, симфоническая логика Брукнера делается гораздо более понятной, причем можно предположить, что подобное видение было характерно для его мировосприятия в целом, и именно этим, а не неуверенностью в себе, объясняется непрекращающаяся работа над уже готовыми опусами. Понимаемое так, время из числовой прямой превращается в некий длящийся взрыв, текучее единство, где нераздельны причины и следствия, так как «сам временной поток мыслится в мифологии как нераздельная в себе цельность, которая сама для себя и причина, и цель» [234] Лосев А. Ф. Античная философия истории. – М.: Наука, 1977.
.
Интервал:
Закладка:
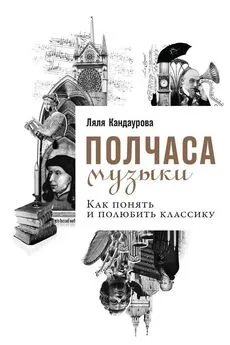
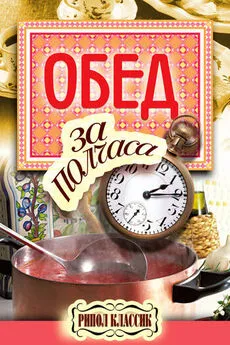
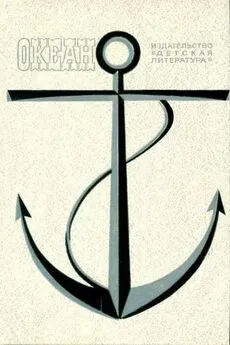
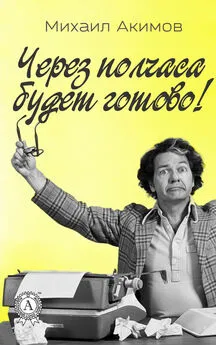

![Ляля Кандаурова - Как слушать музыку [litres]](/books/1072225/lyalya-kandaurova-kak-slushat-muzyku-litres.webp)