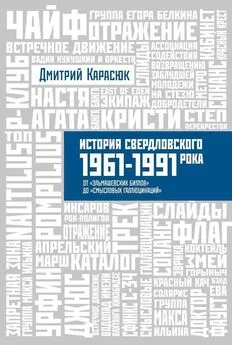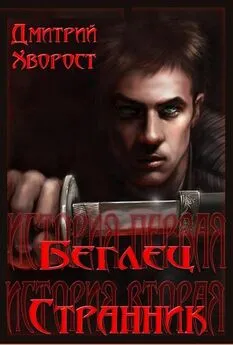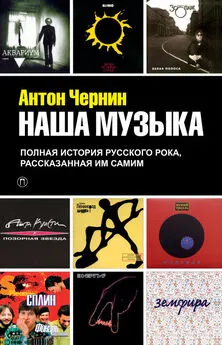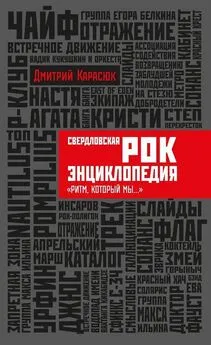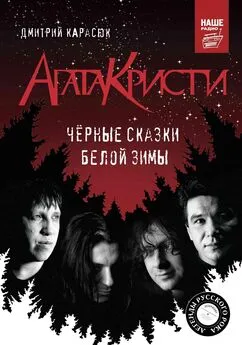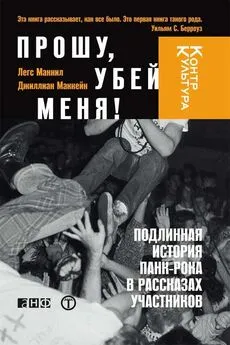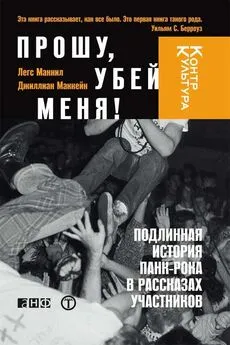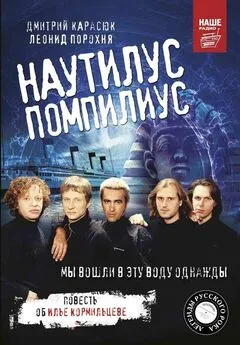Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Название:История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кабинетный ученый
- Год:2016
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7525-3093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» краткое содержание
мощное течение, Гольфстрим, самостоятельно пробивший себе дорогу к любви
и признанию многомиллионной аудитории. В этой книге, написанной в жанре
«опыт исторического исследования», идет речь о людях, больше всего на свете
желавших делать рок-н-ролл или что-то полезное для него. Книга охватывает
период 1961–1991 гг. — время становления и расцвета свердловского рока.
История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лучшее часто бывает врагом хорошего. Когда Кукушкину на III фестивале подыгрывала толпа абсолютно несыгранных и не репетировавших вместе музыкантов из разных групп, его песни звучали куда как вкуснее, чем на студийной записи. Там в кашу добавили столько масла, что умудрились ее испортить.
Д. Лемов, 2015
Двигаться навстречу основному музыкальному потоку — занятие неблагодарное, но однозначно благородное, поскольку говорит о независимости мышления тех, кто принял такое решение. К подобным героям-отщепенцам относится группа «Встречное движение», в подтверждение своего кредо создавшая рок-сюиту «Свет на пути». Возможно, им чуть-чуть не хватило наглости, чтобы совершенно не замечать движущегося им навстречу потока, то есть мейнстрима свердловского рока. И все же единственный альбом этой незаурядной команды, с его ощущением оторванности от сиюминутности, что было бичом едва ли не всех свердловских команд, своей ни на что непохожестью, близок к совершенству шедевральности.
«Свет на пути» противоположен общепринятым на тот момент рок-стандартам уже хотя бы приподнятостью настроения как доминанты материала альбома. И при этом подспудное ощущение тоски по чему-то несбыточно-светлому не дает музыке обернуться щенячьим восторгом и оторваться от грешной земли.
Да и утонченность аранжировки с акцентом на звучание клавиш Юрия Хазина нельзя назвать вычурными узорами. Музыкантам «Встречного движения» ни в одном из моментов рок-сюиты не изменяет вкус. Поэтому они смело балансируют на грани элитарности. И даже если в вокальной партии, точнее в тексте, в общем и целом следующем канонам классической поэзии, появляется брешь метафорической слабости, вокалист, тонко интонируя, стилизует пение под наивную детскость. И в этом угадывается почти байроновский романтизм. А какой романтизм не наивен в наши сурово-рационалистические времена?
Романтикой веет почти от каждого опуса «Встречного движения». Причем романтикой истинно русского размаха, с его удалью и в тоже время христианским смирением. Саунд альбома «Свет на пути» соединил в себе утонченность «Supertramp» с глубинным проникновением в суть народного духа ансамбля «Песняры». Это грандиозное, почти эпическое звуковое полотно, запечатлевшее в движении (как аллегорию вечности) трансформацию маленького мирка человека в бесконечность космоса — одна из главных жемчужин отечественного рока.
Алексей Коршун, 2015
Как известно, заметка в газете или телесюжет — продукты мимолетные, они живут от силы несколько дней. Принято думать, что песня рассчитана на больший срок годности. Однако если острый текст журналиста зарифмовать и положить на музыку, вряд ли это продлит ему жизнь — у репортажа век недолог…
В 1986 году молодежная газета «На смену!» упрекнула Владимира Петровца в том, что его концертная программа «иллюстрировала… телевизионную передачу «Международная панорама». Где свое?» — спрашивал комсомольский орган. Владимир ответил на этот вопрос через два года, когда возглавляемая им «Запретная зона» выпустила свой единственный альбом.
Видимо, любви к просмотру телепередач он за это время не утратил. Правда, на голубых экранах сменились лидеры. Появилась программа «Взгляд», которую альбом «Я боюсь…» очень подробно иллюстрирует. Даже сегодня легко вспоминаются темы разоблачительных телесюжетов, соответствующие песням альбома.
Репортаж о разнице уровня жизни между иностранцами и советскими гражданами — пожалуйста, песня «О нас» («только нашим заграндрузьям везде все можно, а нам нельзя»). Интервью с очередным писателем русского зарубежья — получите рок-боевик «Эмигрант» («Уж лучше быть там, чем здесь»). Рассуждения о конформизме современного общества — кантри «В Багдаде все спокойно» («Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю…»). Рассказ об ужасах сталинского ГУЛага — блюз о неудачном побеге из колымского лагеря «Памяти друзей» («Три друга моих погибли. Их положили у вахты, чтоб зеки шли и смотрели…»). Блюз, конечно, это музыка страдания. В прозе Варлама Шаламова тоже страдания хоть отбавляй. Но результат их смешения почему-то вызывает смех — больше всего он похож на воровские страдания типа «Мы бежали втроем…», правда, вполне профессионально сыгранные и записанные.
Ни один из выпусков «Взгляда» не обходился без остросоциальных песен советских рокеров. «Запретная зона» знала это правило и старательно вставила в альбом номера, словно заимствованные у завсегдатаев музыкальных пауз «Взгляда» — «Вариация» («Лишь только сны никто не мог у нас отнять» — привет Борзыкину) и «Конвейер», при прослушивании которого в голову лезут сразу несколько песен Шевчука.
Стройную телеконцепцию альбома венчает песня «Не забудьте выключить телевизор». Она просто выбивает перо из руки критика. Он-то хотел поиздеваться, поддеть группу на телекрючок… А они что, на самом деле имели в виду зомбоящик образца 1988 года?! Переслушал — нет, они всерьез это все поют, можно издеваться дальше.
Жизнь остросоциальной песне может продлить только художественное переосмысление горячих событий, перевод актуальности в ранг вневременного обобщения. Иначе через пару лет восторг слушателей «Вот ведь резанул правду-матку!» сменяется недоумением: «О чем это?» Место старым новостям — в архивах, библиотеках и на телеканале «Ностальгия». Похоже, что место альбому «Я боюсь…» там, куда обычные слушатели забредают крайне редко…
P. S. Хотя ГУЛаговский блюз — это, конечно, штука посильнее «Фауста» Гете. А уж многих хитов радио «Шансон» — точно!
Д. Лемов, 2015
В те времена, когда развенчание коммунистических идей стало нормой, а самый массовый журнал Советского Союза «Огонек» — рупором всего антисоветского, панк-рок уже не выглядел чудовищем, восставшим из ада. Так, что-то вроде слегка опасной забавы для недорослей. Одними ирокезами, перекошенными физиономиями и матом напугать можно было только неграмотных старушек. Придумать тогда что-то новое в области плевания в лицо общественному вкусу — задача практически не решаемая: все, что могло шокировать, уже свое, казалось, отшокировало. Но панки из группы «Красный хач» как будто не замечали процессов в общественной жизни. Или просто не верили в них, как истинные панки. Поэтому их песни, напоминающие не то лозунги левых эсеров, не то речевки ку-клукс-клановцев, вызывают ощутимую нервную лихорадку на грани тошноты.
Злость на грани психопатии — художественный метод «Красного хача». Злость на бездарный мир и бездарных зловредных существ, его населяющих. Злость в едких текстах и в самом чрезвычайно напористом саунде, достаточную плотность которого обеспечивает мощная ритм-секция и впечатляющая работа гитариста. Лишь в некоторых моментах синдром Сида Вишеза (синдром превращения панк-игры в смысл жизни) захлестывает музыкантов, и музыка группы на какое-то время (к счастью, непродолжительное) оказывается блуждающей в бескрайних полях безумия, превращаясь в нечто садомазохистское, с уклоном в ментальный каннибализм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: