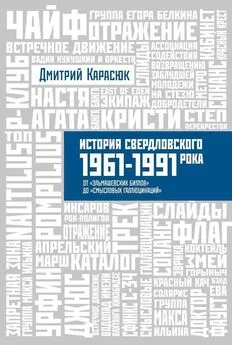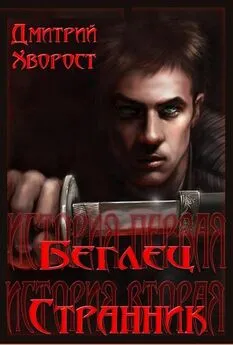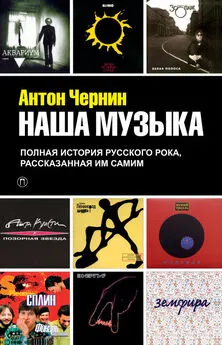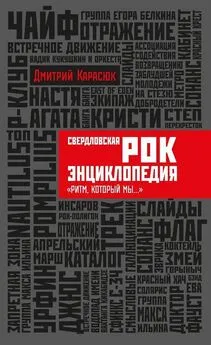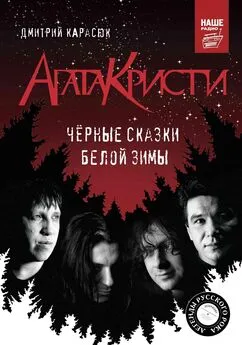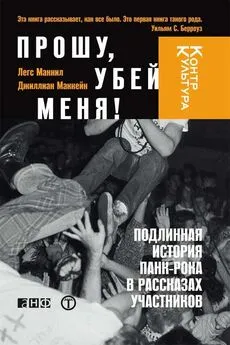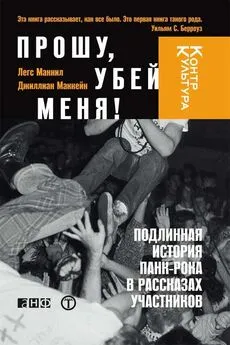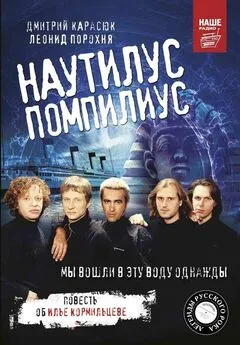Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Название:История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кабинетный ученый
- Год:2016
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7525-3093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» краткое содержание
мощное течение, Гольфстрим, самостоятельно пробивший себе дорогу к любви
и признанию многомиллионной аудитории. В этой книге, написанной в жанре
«опыт исторического исследования», идет речь о людях, больше всего на свете
желавших делать рок-н-ролл или что-то полезное для него. Книга охватывает
период 1961–1991 гг. — время становления и расцвета свердловского рока.
История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако аудиопроблемы не исчезли с первыми лучами солнца, и решать их надо было постоянно. Наравне с другими героями невидимого, но слышимого фронта почти восемьдесят часов не выпускал из рук паяльника и отвертки Алексей Густов: «Эти три дня были страшными для техперсонала. Если мы не у пульта, значит, мы за сценой чиним аппарат. Если мы не у пульта и не за сценой, значит, мы где-то в углу отсыпаемся. Это рокеры могли наслаждаться и пьянствовать, а мы пахали».
Помимо технарей на сцене возились два десятка оформителей. Основную их часть составляли молодые дизайнеры из института технической эстетики (ВНИИТЭ). Примерно за полгода до фестиваля институтская молодежь, наслушавшись лекций Грахова о современном роке, слезла с итальянцев, диско, дремучего металла и приобщилась к более прогрессивной музыке. Теперь новообращенные трудились над изготовлением декораций. Для оформления сцены понадобились выставочные конструкции. Павел Ковалев, тогдашний комсомольский лидер ВНИИТЭ, убедил руководство и партком института, что «этот реквизит необходим для полезного дела, для продвижения отечественного, социалистического рок-н-ролла, и они со вздохом разрешили использовать институтское имущество. Все, что можно было взять на халяву, использовалось в оформлении. Конструкции были позорненькие и могли в любой момент развалиться. Их пришлось укреплять чёрти чем. Планшеты уже были использованные, и их заново покрасили в рок-н-ролльном стиле. Еще была расписана огромная тряпка-задник».
Наутро сцена смотрелась очень стильно, особенно по сравнению с другими советскими рок-фестивалями, организаторы которых вообще не заморачивались декорациями и оформлением. Уральская школа архитектуры и дизайна опять подтвердила свой высокий уровень, на сей раз в ограниченном рок-пространстве.
На сцене начали репетировать команды, выступавшие в первый фестивальный вечер…
В пятницу 20 июня в 19 часов ДК имени Свердлова был набит до отказа. У входа осталась толпа несчастных, не имевших на руках заветных билетов. Путь им преграждала опергруппа, на которую не действовали ни мольбы, ни угрозы, ни признания типа «я близкий родственник Грахова» или «я лучший друг Бутусова». Те, кто попал вовнутрь, осматривали стенды с информацией о выступающих группах, сделанные музыкантами и их друзьями. Высокохудожественным исполнением выделялись планшеты коллективов, имевших отношение к архитектурному институту, но и другие группы не подкачали. Внимание зрителей привлекали огромный след львиной лапы на стенде «Сфинкса», буйство красок на планшете «Коктейля» и нововолновые очкастые фотографии «апрельских маршей».
Концерт начался с небольшим опозданием. Александр Калужский в элегантном костюме объявил творческую мастерскую открытой и представил членов жюри. После двухминутной торжественной части свет погас. В темноте лишь одиноко мерцала лампа на столе жюри, в лучах которой Евгений Зашихин был готов сверять напечатанный текст с тем, что он услышит со сцены. Начался рок-н-ролл.
В луче прожектора появился вокалист «Р-клуба» Сергей «Агап» Долгополов — весь в черной коже, с выбеленной физиономией и огромными звездами на щеках. Он начал крутить микрофонную стойку и вопить фальцетом что-то боевое. Большинство зрителей зажмурились от восторга и от грохота, который лился из динамиков. Момент был исторический — в трехстах метрах от областного комитета КПСС происходило нечто глубоко чуждое настоящим строителям коммунизма. Пессимист Полковник до последнего момента был уверен — что-нибудь обязательно сорвется: «Когда на сцену выскочил Агап в боевой раскраске, я охнул — теперь-то точно кто-то из начальства повиснет на рубильнике. Но, как ни удивительно, все обошлось».
Очарование момента прошло быстро — звук был ужасный. За пультом сидели Порохня с Тариком, но уже через пару минут к ручкам потянулись несколько опытных рук, желавших помочь. Коллективными усилиями ко второй песне звучание удалось хоть немного, но поправить. Текст был по-прежнему неразборчив, зато стало слышно, что гитара, одолженная Злоцким у Бутусова, совсем не строит. Ситуацию спасал Моисеев, который на басу умудрялся запиливать длинные соло. На «Прокаженном» появились Белкин, добавивший гитарного звучания и разнообразия в шоу, и Могилевский, чей саксофон верещал в унисон с Агапом. Аудитория знала песни с последнего альбома «Р-клуба», но удивительное дело: живьем они звучали не так энергично, как в записи. К концу получасового выступления Агап заметно охрип, а зал так же заметно подустал.
Жюри к подобному старту было явно неготово. Если бы Агап во всей своей красе появился на второй или на третий день, «Р-клуб», возможно, и был бы аттестован — к тому времени жюри уже насмотрелось всякого. Но путь первопроходцев часто оказывается тернистым…
Экс-барабанщику «Метро» Игорю Злобину не хотелось петь, но, так как музыканты группы «Тайм-Аут» голосистостью не отличались, функции вокалиста ему пришлось взять на себя. Партию ударных он уступил драм-машине. Перед самым выступлением Игорю стало так страшно, что он ушел из ДК Свердлова куда глаза глядят. Дойдя почти до набережной Исети, он осознал, что ребят подвести не может, вернулся, влил в себя почти литр вермута и вышел на сцену. Выступление получилось так себе. Братья Павел и Вячеслав Устюговы (гитара и бас) позиционировали свой коллектив как рок-н-ролльный, но в песнях, написанных Славой, слишком остро чувствовалось влияние его любимого композитора Юрия Антонова. Публика быстро просекла, что к чему, и из зала донеслись крики: «Рок давай!»
Хотя музыка «Тайм-Аута» была гораздо привычнее слуху большинства членов жюри, чем хард-рок их предшественников, злобинскую команду тоже не аттестовали. Мнения жюри и публики совпали.
Об аудитории стоит сказать особо. Ее поведение было максимально раскрепощенным. Это не удивительно. Большинство мест было занято самими музыкантами, которые в свободное от собственных выступлений время превращались в зрителей. Естественно, они знали почти всех артистов как облупленных и уже слышали их песни. Слышали, но не видели — большинство групп никогда не выходили на сцену. Оценивала друг друга эта аудитория по гамбургскому счету. От нее трудно было скрыть любые огрехи, зато и достоинства она тонко подмечала. Ни о какой сдержанности не было и речи — выражение восторга доходило до танцев на стульях, а то, что не нравилось, засвистывали и заулюлюкивали. В перерывах эта публика сама себя развлекала. Бегунов громогласно требовал «Калужского — на сцену!», Долгополов с Шахриным затягивали «Степь да степь кругом», остальные подпевали. Сам Агап объяснял свое солирование в этих импровизированных хорах просто: «Мне хотелось помочь людям. Я считал, что они поют плохо, а я пел лучше. Особенно после портвейна. Было чувство полного внутреннего раскрепощения». На Михаила Симакова, который был тогда простым зрителем, поведение публики произвело сильное впечатление: «Традиция вопить из зала какие-то ритуальные фразы зародилась именно на первом фестивале. Я до сих пор, когда бываю на концертах наших групп, стараюсь выкрикнуть из зала что-нибудь вечное, типа «Калужского — на сцену!», только чтобы поддержать традицию».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: