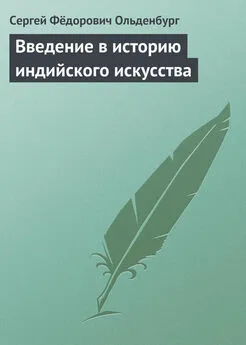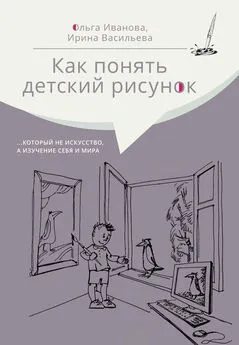Б Виппер - Введение в историческое изучение искусства
- Название:Введение в историческое изучение искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Б Виппер - Введение в историческое изучение искусства краткое содержание
Введение в историческое изучение искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Характерна также созданная в V веке портретная форма "гермы", чисто тектоническая и абстрактная -- четырехгранный, суживающийся книзу столб, увенчанный слегка стилизованным портретом (сначала, по-видимому, так изображали только бога Гермеса -- отсюда и название). Иногда -- и это еще более подчеркивает абстрактный, идеальный характер греческого бюста -- герма завершалась не одной, а двумя головами -- двух философов, двух поэтов (такие гермы ставили в библиотеках и в частных домах).
Характер человека, свойство бога классическое искусство воплощает не мимикой, не выражением лица, а позой, походкой, специфическими движениями или атрибутами. Олимпийские боги на фризе Парфенона характеризованы очень тонко, но чисто моторными или символическими признаками: у Зевса, единственного из богов,-- кресло со спинкой, изнеженный Дионис сидит на подушке и опирается на гибкого, нетерпеливого Гермеса, хромой Гефест опирается на палку, воинственный Арес свободным жестом охватил колени и покачивается.
Некоторый перелом наступает только в IV веке. В это время усиливается интерес к портрету, появляется большее разнообразие его типов -- скорбный Еврипид, просветленное безобразие Сократа, воображаемый портрет слепого Гомера. Но и в это время портреты отличаются обобщенностью и героической приподнятостью, воплощающей личность в борьбе с судьбой.
Контраст между V и IV веками до н. э. в трактовке портрета особенно ясен на эволюции изображения глаз. До IV века у взгляда греческой статуи нет ни индивидуальной жизненности, ни какого-нибудь определенного выражения; это абстрактный взгляд вне времени и пространства, ни на что не обращенный, не отражающий никакого характера или переживания. Первые попытки драматизировать голову человека, и в особенности его взгляд, делаются в IV веке. Но все же этот драматизм воплощает не индивидуальные переживания, а духовное напряжение вообще, страстную взволнованность. Всего последовательнее эту драматизацию образа проводит скульптор Скопас. Экспрессия его голов достигнута целым рядом специфических приемов: лоб с поперечной складкой, глаза в тени углубления, открытый рот, из которого как бы вырывается горячее дыхание, изогнутая шея. Специфические приемы Скопас применял и для изображения глаз: выпуклое глазное яблоко, верхнее веко, слегка закрывающее его, нависающая бровь придают взгляду взволнованность и страдальческий пафос. Иного эмоционального эффекта добивался современник Скопаса Пракситель. Благодаря мягкой, как бы расплывчатой трактовке форм взгляд его статуй приобретает влажность и мечтательность.
В связи с этим обогащением стилистических средств оказывается возможным и чрезвычайное обогащение тематики новыми образами психологического характера: так в IV веке появляются вооруженная Афродита и влюбленный бог войны, бог сна, беснующаяся вакханка и подвыпивший фавн. Следует вместе с тем отметить, что психологическая интерпретация всех статуй вложена не столько в мимику лица, сколько в пластику и символику тела: голова бога сна находится в тени, он ступает мягкими, неслышными шагами; у Менады -- широкий шаг, жертвенный козленок на плече, откинутая назад голова. Во второй половине IV века появляется портрет во весь рост (Софокл, Демосфен), а вместе с тем растет популярность бюста. Портрету Софокла (выполненному лет через сто после смерти знаменитого драматурга) свойственно некоторое интеллектуальное высокомерие и в позе, и в жестах, которое характеризует не столько личность данного поэта, сколько вообще знаменитого, избалованного успехом человека.
В эпоху эллинизма греческое портретное искусство становится острее, но вместе с тем будничнее и пессимистичнее, часто воплощая настроение грусти, потерянности, разлада между личностью и ее телесной оболочкой. Особенно выразителен бронзовый бюст неизвестного поэта (раньше его считали портретом поэта Каллимаха). В нем есть и несомненная близость к натуре, и вместе с тем напряженный драматизм, который сказывается в наклоне головы, резких морщинах, спутанных волосах, открытом рте. И все же это не столько индивидуальный, сколько характерный портрет, как и все другие греческие портреты эпохи эллинизма. Они воссоздают не индивидуальные свойства модели, а типические признаки, не переживания, а "этос", не душу данного человека, а дух человека вообще; бурное вдохновение поэта, погружение в философские размышления, непоколебимую волю стратега и т. п. Доминирующим свойством греческого портрета является выражение воли, стремление к действию, к активности. В галерее греческих портретов мы найдем характеры сдержанные или, скорее, замкнутые или открытые. Но о чувствах, переживаниях этих людей мы почти ничего не знаем. Греческому портрету чуждо выражение улыбки или самозабвения.
В отличие от греческого римский отдел античного музея поражает обилием портретов. При этом римские портреты существенно отличаются от греческих как по внешним, так и по внутренним признакам. Прежде всего, в Риме создано очень много женских портретов, в Греции же их почти нет. Римские портреты обычно изображают императоров, полководцев, чиновников; греческие портреты чаще изображают ученых и художников. К этому присоединяется отличие по существу. Греческие портреты передают типичные черты человека; при этом человек, так сказать, подчиняется статуе, тем чисто пластическим возможностям, которые скрыты в форме головы и чертах лица. В римском портрете, напротив, человек часто совершенно подавляет статую, так как художник стремится схватить в голове и лице индивидуальные, остроперсональные и часто совершенно случайные черты.
Эта разница особенно бросается в глаза, если сравнивать не бюсты, а статуи во весь рост. С одной стороны, возьмем греческую портретную статую персидского сатрапа Мавсола (IV век до н. э.). В ней воплощены типические черты восточного властителя -- борода, длинные волосы, медленные, привольные движения (изогнутое тело и наклон головы); при этом специфический ритм, присущий образу Мавсола, равномерно выдержан во всей статуе -- в голове и теле. Перед нами портрет с головы до ног.
Совершенно иначе решена проблема в римском портрете императора Клавдия. У императора тело Зевса, идеальное и условное, заимствованное из греческого репертуара, и на этом условном теле -- индивидуальная голова Клавдия, в которой подчеркнуты остроиндивидуальные, обыденные черты императора, его духовная ограниченность. Таким образом, статуя состоит из двух стилистически и психологически разноречивых частей.
Весьма возможно, что эта своеобразная двойственность римских портретных статуй опирается на традиции этрусской скульптуры, на те этрусские статуи умерших, которые помещались на крышках саркофагов. Тело у этих статуй представляет собой условный, пассивный придаток к огромной, жутко реальной и индивидуальной голове, словно предвосхищающей расцвет бюста в римской скульптуре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: