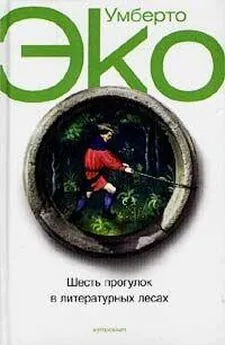Умберто Эко - Шесть прогулок в лесах
- Название:Шесть прогулок в лесах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Шесть прогулок в лесах краткое содержание
Эта книга — шесть лекций, прочитанных У.Эко в Гарвардском университете в 1994 году. Приводится по изданию: У.Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2002. Перевод с английского А.Глебовской. В квадратных скобках указаны страницы по этому изданию. Примечания авторские, но здесь приводятся не все, а только те, в которых есть суждения У.Эко. Рисунки, на которые ссылается автор, см. в конце документа.
Шесть прогулок в лесах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Читая в тексте «Сильвии» фразу «Пока фиакр взбирается на склоны холмов, воскресим в памяти время, когда я так часто наезжал в эти места», мы понимаем, что слышим голос не рассказчика, но образцового автора. Ясно, что в этот момент образцовый автор проявляет себя в том, как именно он структурирует фабулу: не сюжетными средствами, но через способ изложения.
[67] Многие литературные теории исходят из того, что голос образцового автора должен прослушиваться только в организации фактов (фабулы и сюжета); роль дискурса сводится к минимуму — не в том смысле, что его не существует, а в том, что читатель не должен его чувствовать. Для Т.С.Элиота «единственным способом выражения эмоций в художественной форме является нахождение „объективного коррелята", иными словами — ряда предметов, ситуации, цепочки событий, которые могли бы стать формулой этой эмоции». Пруст восхищается стилем Флобера, но при этом порицает его за выражения вроде «эти добрые старые трактиры, в которых всегда витает сельский дух». Он цитирует строчку: «Госпожа Бовари подошла к камину» и удовлетворенно замечает: «Нигде не сказано, что ей было холодно». Прусту желанен «литой стиль, как порфир без единой трещинки, без всяких примесей», в котором мы видим лишь «явления» вещей.
Термин «явления» наводит нас на мысль о «богоявлении» у Джойса. В «Дублинцах» есть моменты «богоявления», где само представление событий подсказывает читателям, [68] что они должны попытаться понять. С другой стороны, в сцене явления птицы-девушки в «Портрете художника в юности» читателю помогает сориентироваться не фабула, но дискурс. Именно поэтому мне кажется, что передать явление девушки в «Портрете…» средствами кинематографии невозможно, тогда как Джон Хастон прекрасно сумел передать атмосферу рассказа «Мертвые» (в одноименном фильме), просто драматизировав факты, ситуации и диалоги.
Я был вынужден сделать это пространное отступление, посвященное различным уровням литературного текста, потому что пришло время ответить на очень заковыристый вопрос: если существуют тексты, в которых есть фабула, но нет сюжета, может быть, в некоторых текстах, вроде «Сильвии», есть сюжет, но нет фабулы? Может быть, «Сильвия» — это текст, рассказывающий о том, как бывает невозможно восстановить фабулу? Может быть, он требует, чтобы читатель повредился рассудком, как и Лабрюни, — чтобы в его сознании смешались сны, воспоминания и реальность? Может быть, употребление несовершенного времени указывает на то, что автор хотел [69] нас запутать, а не на то, что мы должны заниматься его несовершенными глаголами? Здесь нам предстоит сделать выбор между двумя утверждениями. Автор первого из них, Лабрюни, в письме к Александру Дюма, которое вошло в «Дочерей огня», шутливо заявляет, что его произведения ничем не сложнее гегелевской метафизики, и добавляет, что «если их растолковать, они утратят все свое очарование, — да только это невозможно». Другое безусловно принадлежит Нервалю, который пишет в последней главе «Сильвии»: «Такие вот химеры чаруют и сбивают нас с пути на заре жизни. Я попытался сделать с них набросок, он не очень отчетлив, но все же найдет отклик во многих сердцах». Следует ли понимать эти слова Нерваля как заявление, что он не придерживался никакого отчетливого порядка, или как признание, что порядок, которого он придерживался, далеко не очевиден? Следует ли нам прийти к заключению, что Пруст — который с такой тонкостью проанализировал использование глагольных форм у Флобера и был столь восприимчив к повествовательным приемам и их воздействию — предоставил Нервалю морочить [70] нас несовершенным прошедшим, чтобы нам осталось только (перед лицом этого жестокого времени, показывающего жизнь эфемерной и мимолетной) испытывать загадочную грусть? Мог ли Лабрюни, затратив столько труда на упорядочивание своего текста, после этого желать, чтобы мы не заметили и не оценили приемов, с помощью которых он намеренно сбивает нас с пути?
Мне однажды растолковали, что кока-кола такая вкусная потому, что в ней содержатся некие секретные ингредиенты, тайну которых мудрецы из Атланты никогда и никому не раскроют, — но я не согласен с таким кока-кольным подходом в литературоведении. Не верится мне, что Нерваль не хотел, чтобы читатель распознал и оценил его стилистические приемы. Нерваль хотел, чтобы мы одновременно почувствовали, что временные пласты у него перемешаны, и поняли, как именно ему удалось достичь их слияния.
Тут может последовать возражение, что мои представления о литературе не совпадают с нервалевскими, а возможно, даже и с представлениями Лабрюни; однако давайте вернемся к тексту «Сильвии». [71] Повествование открывается расплывчатой фразой «Я выходил из театра…», словно в попытке погрузить нас во время, сходное со сказочным, а завершается датой, единственной датой во всей книге. На последней странице, уже после того, как рассказчик утратил все свои иллюзии, Сильвия говорит: «Бедная Адриенна! Она умерла в монастыре Сен-С. в тысяча восемьсот тридцать втором году».
Зачем нужна эта навязчивая дата, которая появляется в самом конце, в самой ударной точке текста, и, казалось бы, своей точностью развеивает чары? Как говорит Пруст, «мы вынуждены постоянно возвращаться к уже прочитанному, чтобы понять, где мы находимся, в настоящем или в воспоминаниях о прошлом». А вернувшись, мы понимаем, что все повествование буквально утыкано временными вешками.
При первом чтении они незаметны, но при перечтении бросаются в глаза. Рассказчик упоминает, что к моменту, когда он начинает свой рассказ, он уже год как влюблен в актрису. После первой ретроспекции он говорит об Адриенне как о «давно позабытом образе», однако, думая о Сильвии, [72] удивляется: «Почему я три года не вспоминал о ней?» Поначалу читатель полагает, что три года прошло с момента, которому посвящена первая ретроспекция, и путается еще сильнее, потому что в таком случае получается, что рассказчик еще мальчишка, а не молодой бонвиван. Однако в начале четвертой главы, в зачине второй ретроспекции, когда фиакр взбирается по склону холма, текст открывается словами: «Минуло несколько лет…». С какого момента? Возможно, с дней его детства, которым посвящена первая ретроспекция. Читатель может подумать, что несколько лет прошло между первой ретроспекцией и второй, а три года — между второй ретроспекцией и моментом поездки… Из второй, длинной ретроспекции явствует, что рассказчик проводит в этом месте ночь и следующий день. Седьмая глава (в которой временные последовательности перепутаны сильнее всего) начинается словами: «Сейчас четыре часа утра», а в следующей сообщается, что рассказчик приехал в Луази к рассвету. Он провел там целый день и уехал на следующее утро. После того как рассказчик возвращается в Париж и вступает в связь с актрисой, [73] временные указатели становятся более частыми: нам говорят, что «прошли месяцы»; после определенного события нечто происходит «в течение следующих дней»; потом мы читаем «два месяца спустя», потом «следующим летом» или «на следующий день», «в тот же вечер» и т. д. Возможно, голос, обозначающий для нас эти временные связи, и хочет, чтобы мы утратили чувство времени, но он же подталкивает нас к тому, чтобы восстановить точную последовательность событий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: