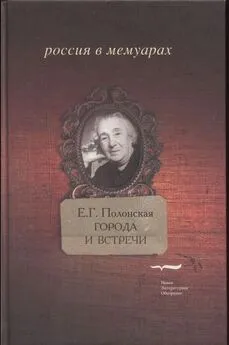Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
- Название:Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0202-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Любимов - Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3 краткое содержание
Третий том воспоминаний Николая Михайловича Любимова (1912—1992), известного переводчика Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей, включает в себя главу о Пастернаке, о священнослужителях и их судьбах в страшные советские годы, о церковном пении, театре и литературных концертах 20—30-х годов ХХ века. В качестве приложения печатается словарь, над которым Н.М.Любимов работал всю свою литературную жизнь.
Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Программа – на «Царя Федора»! Программа – на «Царя Федора»!..
Мы заглянули в программу: Федор – Качалов.
… Ну, конечно, меня захватило в спектакле все: и фигуры бояр (больше других запомнился востроглазый – злобная бороденка клинышком, – егозливый, ехидный, смекалистый Луп-Клешнин в исполнении Н. П. Баталова), и знаменитая толпа Художественного театра, в которой разноликие человеческие особи там, где того требовали обстоятельства, сплавлялись в единое тело и сливались в единую душу, и декорации – эти царские палаты с низенькими дверями и узенькими окошечками, в которых есть что-то жутко-таинственное, которые переносили зрителя в старомосковскую, кремлевскую Русь, и, наконец, дивной красоты древнецерковные распевы, которые составляли музыкальный фон трагедии, разыгрывавшейся в последней картине, перед Архангельским собором.
Но стоило появиться на сцене Качалову, и все мое внимание сосредоточилось на нем.
О Качалове существует целая литература. Роль царя Федора осталась в тени. Его Федор холодно принят был и в театре и частью зрителей. Уже много спустя из книги воспоминаний его сына, Вадима Васильевича Шверубовича, которую по полноте правды, и доброй и беспощадной, по тонкости психологических и зрительских наблюдений, по увлекательности изложения, по художественности изображения смело можно поставить в ряд с лучшими русскими театральными воспоминаниями, я узнал, что Качалова, при всей его скромности, на сей раз уязвил полууспех: он был доволен собой в этой роли и настаивал на верности своей трактовки, – узнал и, признаюсь, порадовался, что мой четырнадцатилетний вкус совпал с самооценкой такого артиста, как Качалов. По-видимому, Качалов раздражал и товарищей и зрителей, находившихся под обаянием москвинского образа, тем, что в иных местах (например, в описании того, как Красильников запорол медведя) вызывал смех. В отличие от Москвина, Качалов строил роль не только на контрасте между душевной тишиной и душевными бурями Федора, но и между смешным и великим в нем. Он не «комиковал», о нет! Он был трогателен и в смешном. Кроме того, выявляя в Федоре смешное, он тем явственнее означал лирико-драматическую сущность образа. А ведь Ал. Конст. Толстой в «Проекте постановки „Царя Федора“ указывает на то, что в Федоре есть „и трагическая и комическая стороны“, что в нем „трагический элемент и оттенок комизма переливаются один в другой…“. „С этим комизмом сценический художник должен обращаться чрезвычайно осторожно и никак не доводить его до яркости“, – замечает далее Толстой. И еще: „Я не опасаюсь того рода смеха, который возбудит в публике… рассказ Федора о медведе или его советы Шаховскому, как биться на кулачках. Это будет смех добрый, не умаляющий нисколько уважения к высоким достоинствам Федора… Вообще в искусстве бояться выставлять недостатки любимых нами лиц – не значит оказывать им услугу. Оно, с одной стороны, предполагает мало доверия к их качествам; с другой – приводит к созданию безукоризненных и безличных существ, в которые никто не верит“. Качалов впитал в себя эти авторские указания. Любопытно, что Москвин, с такой безоглядной смелостью открывавший один за другим те пласты, из которых состоит горьковский Лука, не принял „многосложности“, как выражается о своем герое Толстой, качаловского Федора – иконописного царя, родного сына Грозного, с подчас умилительно смешными ухватками.
Внешний облик Федора – Качалова – облик святого, сошедшего с иконы древнего, теперь бы я сказал – рублевского письма. Но это только самое первое, мгновенное впечатление. Уже в начальных репликах:
Стремянный! Отчего
Конь подо мной вздыбился?
……………………
Стремянный, не давать
Ему овса! —
слышатся капризные и даже властные нотки, но пока еще только нотки. Пока еще это всего лишь короткая вспышка недовольства, за которой следует раскаяние:
Я, впрочем, может быть,
Сам виноват. Я слишком сильно стиснул
Ему бока.
……………………….
В табун его! И полный корм ему
Давать по смерть!
Качалов уже в этой короткой сцене со стремянным показал, насколько отходчив Федор, но коли отходчив, то, стало быть, и вспыльчив…
Федор у Ал. К. Толстого и у Качалова – натура поэтическая. Грозный дал ему презрительную кличку: «пономарь». Но у Федора в его страсти к колокольному звону проявляется музыкальность.
Славно
Трезвонят у Андронья…
– с мечтательной задумчивостью произносил эти слова Качалов, и в его необыкновенном, единственном голосе слышался певучий звон.
И еще одна важнейшая черта в толстовском и качаловском Федоре проступила в этой первой короткой картине…
Федор – Качалов склоняет Годунова на мир с Шуйским:
Ты ведай там, как знаешь, государство,
Ты в том горазд, а я здесь больше смыслю.
Здесь надо ведать сердце человека!..
Последнюю фразу Федор – Качалов выделял голосом. Он произносил ее медленно, с несвойственной Федору вескостью, выдерживая короткую паузу перед словом «сердце» с тем, чтобы сделать упор на словосочетании «сердце человека».
Чувствовалось, что для Качалова это одна из ключевых реплик во всей роли.
А затем в нем снова просыпается ребенок, но на этот раз уже не капризный, а шаловливый, и он с мальчишески задорными смешинками в глазах поддразнивает Аринушку, будто бы ему понравилась Мстиславская, – поддразнивает для того, чтобы потом с особой силой выразить ей свое обожание:
Я пошутил с тобою!
Да есть ли в целом мире кто-нибудь,
Кого б ты краше не была?
Следующая сцена – сцена недолговечного примирения Годунова с Шуйским. И тут Качалов дает почувствовать, что миротворчество – стихия Федора. Федор – Качалов не таит своего волнения перед приходом Шуйских (а вдруг сорвется?..), но и не скрывает, что мирить – это для него истинное наслаждение и что он это наслаждение сейчас предвкушает. Однако приход Ивана Петровича Шуйского, его родных и сторонников приводит Федора – Качалова в крайнее смятение. Он не знает, с чего начать, заговаривает о предстоящем браке Мстиславской с Шаховским:
Я рад… я о-чень рад!..
Я-а-а… поздравляю вас! —
говорит он с большими паузами, растягивая гласные. Но как скоро гора свалилась с плеч, Федор – Качалов сияет:
Друзья мои! Спасибо вам, спасибо!
Аринушка, вот это в целой жизни
Мой лучший день!
И теперь уже можно забыть про дела и вновь с детской непосредственностью увлечься потехами и забавами… Федор – Качалов рассказывает о том, как Красильников запорол медведя, и, войдя в азарт, изображает бой Красильникова с медведем в лицах. Несмотря на все свое почтение к духовным особам, он при словах:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
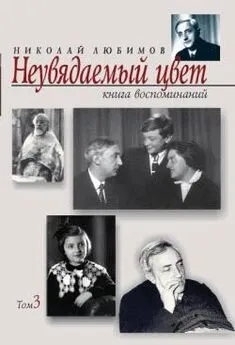

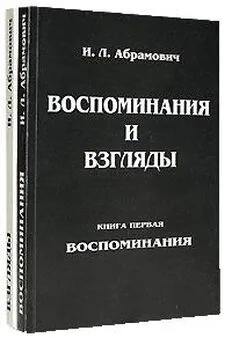
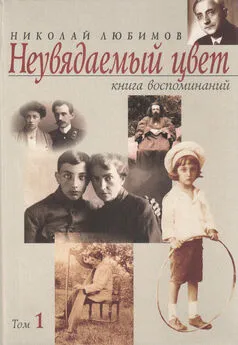
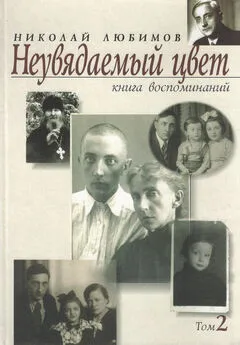
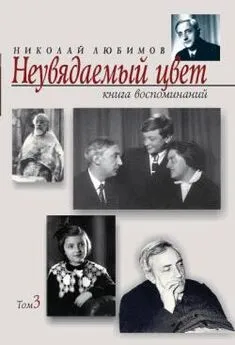

![Эльке Хайденрайх - Все не случайно [Книга воспоминаний]](/books/1078408/elke-hajdenrajh-vse-ne-sluchajno-kniga-vospominan.webp)