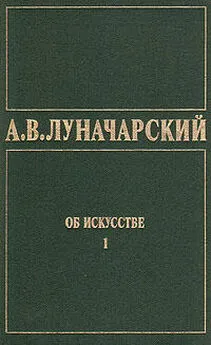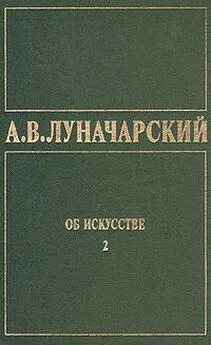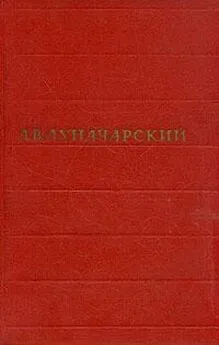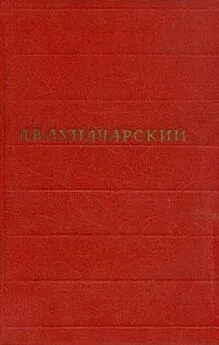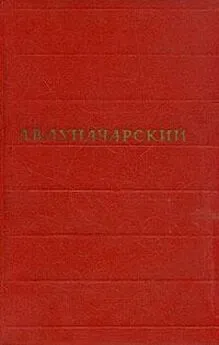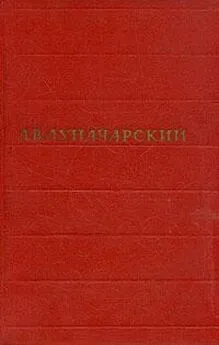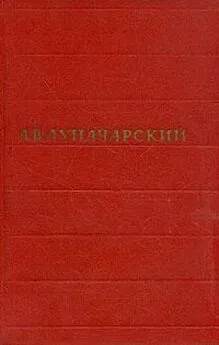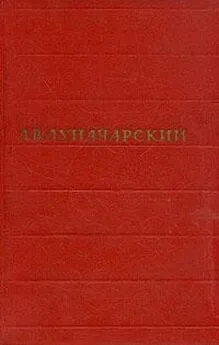Анатолий Луначарский - ОБ ИСКУССТВЕ. ТОМ 1 (Искусство на Западе)
- Название:ОБ ИСКУССТВЕ. ТОМ 1 (Искусство на Западе)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Искусство»
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:ISBN
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Луначарский - ОБ ИСКУССТВЕ. ТОМ 1 (Искусство на Западе) краткое содержание
Первый том двухтомного издания работ Луначарского (1875— 1933), первого наркома просвещения, искусствоведа и критика, посвящен западному искусству. Автор анализирует художественную жизнь Франции, Германии, Италии последних десятилетий XIX в. и первых трех десятилетий XX в., рассказывает о сокровищах изобразительного искусства прошлых веков, находящихся в музеях Италии, Франции и Голландии. Некоторые работы Луначарского, в том числе большой цикл «Философские поэмы в красках и мраморе», печатавшиеся в журналах и газетах, впервые собраны в книге.
ОБ ИСКУССТВЕ. ТОМ 1 (Искусство на Западе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мысль эта может показаться дикой. Но, боже мой! Футуристы так на многое дерзают, неужели и они рядом с заскорузлыми пассеистами могут лишь фыркать на кинематограф?
Как бы то ни было, на мой взгляд, кипение мысли и чувства, наблюдаемое в современной французской живописи, чревато благородными последствиями, а нелепые выкидыши, подобные кубизму и футуризму, какими мы их сейчас знаем, служат, скорее, доказательством болезненной остроты переживаемого нами творческого момента. Правда, переход от такой болезненности к победоносной планомерности немыслим без соответственного прогресса в области социальной.
ЭВОЛЮЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ
Впервые — «Киевская мысль», 1913, 23 июля, № 201.
Печатается по тексту кн.: Луначарский А. В. Об изобразительном искусстве, т. 1, с. 185—191.
Господа футуристы, конечно, рассматривают себя в области скульптуры, как и во всех других, как последнее звено развития.
Здесь они имеют на это некоторое формальное право.
Строго говоря — и даже не особенно строго говоря, — футуристская скульптура г–на Боччиони, произведения которого сейчас выставлены в Париже, — художественное хулиганство на девять десятых. Быть может, субъективно артист этот и принимает всерьез свой безоглядочный задор за культурную миссию, а может быть, и субъективно не без гордости считает себя ловким и высшего полета фокусником, умеющим изумлять публику до полной растерянности.
Меня здесь не интересует разбираться в психологии этих господ. Я не хочу в стотысячный раз вместе с другими указывать пальцем на и без того колющие глаза нелепости — вымученные и развязные в одно и то же время — его мнимохудожественных детищ.
Не предполагаю я также заниматься неблагодарной и отчасти мною намеченной в другом месте задачей выделения положительных сторон в этом хаосе безвкусицы, кривляния и искания, задачей выделения «метода» из этого «безумия».
Я хочу лишь показать, что, даже с точки зрения серьезнейших и восторженных аналитиков современной нам скульптуры, футуризм является как ни безобразным, а все же законным сыном последних фазисов ее эволюции.
Стало быть, если мы склонны отмечать это ужасное порождение, мы должны искать порок, послуживший ему причиной, и в его родителях.
Для доказательства и выяснения этого моего положения я думаю обратиться к блестящему этюду о Родене, принадлежащему такому первоклассному мыслителю, как Георг Зиммель [182], и напечатанному в таком вообще полном глубоких мыслей тдуде, как «Die philosophische Kultur».
Этюд о Родене, несмотря на небольшую свою величину, дает несравненно больше, чем обещает, а именно — с замечательной меткостью улавливает основную тенденцию эволюции скульптуры и дает превосходные характеристики этапам ее до наших дней.
Мне придется лишь немного дополнить тот ряд цитат, который я позаимствую из блестящего этюда немецкого философа.
Говоря об античной скульптуре, Зиммель пишет: «Подлинно классическая греческая пластика определяется тем, что весь идеализм греческого духа был направлен на прочное, замкнутое, вещественное бытие. Беспокойство становления, неопределенное видоизменение одной формы в другую, движение, как постоянная ломка прочного бытия, — это было для греков зло и уродство. Быть может, как раз потому, что действительность–то греческая была разорванна, неуверенна и беспокойна».
«Через полторы тысячи лет, — говорит далее наш автор, — пластическое искусство готики впервые сделало тело носителем движения, разложило субстанциальную уверенность его форм. Это соответствовало страстности религиозной души, считавшей себя непокорной материи и самодовлеющей форме. Все эти сдавленные, вытянутые, изъеденные и выгнутые, лишенные правильных пропорций фигуры являются пластическим выражением аскетизма. В этой скульптуре тело должно давать то, чего оно, по существу, дать не может: быть носителем стремящейся к потустороннему, даже живущей в потустороннем души».
Переходя к Ренессансу, Зиммель говорит о Гиберти и Донателло: «Здесь движение понято как телесное, это не символ отрицания тела, здесь душа, проявляющаяся в нем, — подлинная одушевленность данного тела. Но у Донателло двойственность формы и движения никогда не бывает удовлетворительно разрешена в отдельных фигурах, а лишь в рельефе, где ему помогает изображенная тут же среда».
Двойственность эта устранена, по мнению Зиммеля, лишь у Микеланджело:
«Движение тела, бесконечность не ведающего покоя становления, выраженная в его образах, стала здесь средством, чтобы с полной законченностью выразить форму тела. Данная форма является у него как бы единственным, вполне подходящим носителем именно данного движения».
Я опускаю великолепные мысли Зиммеля о трагедии микеланджеловской пластики, ибо считаю их при всей глубине — особенно в том виде, какой они получили в этюде, специально посвященном Микеланджело, — весьма спорными.
Перейдем поэтому к Родену, которого автор считает гением следующей ступени:
«Предпосылка или основной тон той достигнутой гармонии между духом и телом, какую дает Микеланджело, есть у него чистое тело в его абстрактно–пластической структуре. У Родена этот основной тон — само движение».
«Благодаря новой гибкости сочленений и новому сочетанию и вибрации плоскостей, новому способу выявления взаимоприкосновения двух тел, новому использованию света, новому искусству соединять или противопоставлять плоскости Роден привносит в фигуру совершенно небывалую меру движения, выражающую в большей мере, чем когда бы то ни было, внутреннюю жизнь человека целиком, с его чувствованиями, мышлением и переживаниями…».
«Очень много кладется при этом на возбуждение воображения. Для этого Роден часто оставляет форму незаконченной и предоставляет поле нашей фантазии».
«В общем, мотив движения у Родена, так сказать, втягивает в себя структуру… Это действительно мимолетное мгновение. Но в нем с такою силою собрано все характерное для данного существа, в нем так выражено его сверхвременное бытие, как это невозможно при других приемах».
Зиммель останавливает свой анализ эволюции ваяния на Родене. Между тем одновременно с Роденом явился другой мастер, пошедший в том же направлении более решительным шагом.
У критиков вы часто найдете вполне правильное утверждение, что формально Роден всю жизнь колеблется между двумя влияниями: он то модернизирует Микеланджело, то несколько неуверенно идет за таким последовательным новатором, как Медардо Россо [183].
Есть даже ценители — как, например, часто цитируемый мною, потому что он действительно интересен, несмотря на парадоксальность, итальянский критик Соффичи, — которые, называя Родена модным «штукатурщиком», буквально поклоняются Россо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: