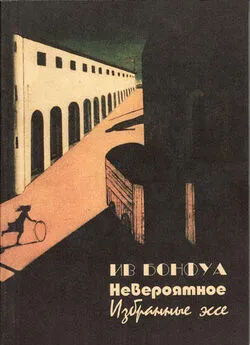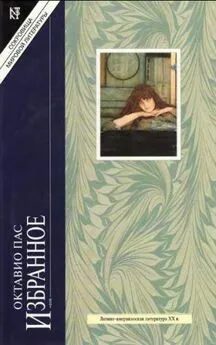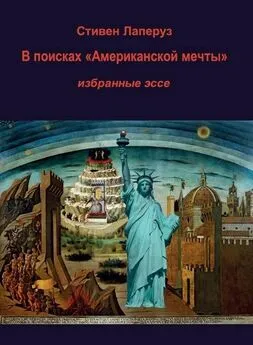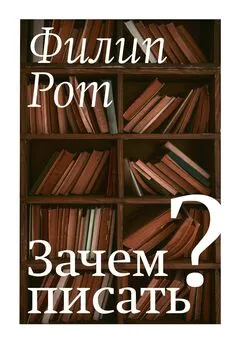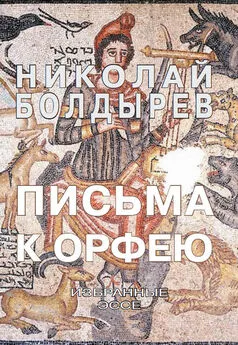Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе)
- Название:Невероятное (избранные эссе)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Carte Blanche»
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-900504-21-12
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ив Бонфуа - Невероятное (избранные эссе) краткое содержание
Ив Бонфуа (род. в 1923 г.) - один из наиболее известных современных французских поэтов, автор семи книг стихов, многочисленных рассказов и повестей, эссе и статей по проблемам поэтики, художественного перевода и изобразительного искусства. Лауреат премии Монтеня, Французской Академии и др.; доктор honoris causa нескольких европейских и американских университетов. С 1981 г. профессор Коллеж де Франс (второй, после Поля Валери, случай, когда этого почетного звания удостоен поэт).
Первый сборник эссе Ива Бонфуа «Невероятное» был издан в 1959 г., второй — «Сон, приснившийся в Мантуе» — в 1967 г. При втором издании этих книг в 1980 и 1992 гг. автор объединил их под общим названием «Невероятное» и внес в тексты небольшие изменения. Публикуемые переводы выполнены по последней версии (1992 г., издательство «Mercure de France»). Они представляют, условно говоря, «первый период» эссеистики Бонфуа (1953–1967 гг.). Из восьми эссе, составивших «Невероятное», для русского издания были выбраны пять (а также завершающее книгу стихотворение в прозе «Благодарение»), из пятнадцати эссе, составивших «Сон, приснившийся в Мантуе», — восемь (а также завершающий книгу рассказ «Семь огней», ранний образец жанра, который сам Бонфуа называет «рассказами во сие»).
Переводы «Благодарения», эссе «Византия», фрагмента эссе «Французская поэзия и принцип тождества» и эссе «Под октябрьским солнцем», публиковавшиеся ранее в периодике, переработаны для настоящего издания.
Невероятное (избранные эссе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как же пало, однако, поэтическое стремление! По отношению к нашей современной поэзии, объявившей себя наследницей религиозной мысли, к этим глубинам французского языка, почти пробужденного, почти вспомнившего стараниями Бодлера, какое место он сберегал для неведомого Бога — для вот этой прохожей, вот этого лебедя, вот этого забрызганного грязью листа плюща, — по отношению к этому открытию, к этому установлению Валери является прямым отступником, новоявленным философом-просветителем, который вовсю толкует о ясности духа, а сам уже и телом, и душой отдался миру теней. Я вновь вспоминаю, каким он был в 1944 году, когда я слушал его лекции в Коллеж де Франс, — изящнейшее создание, наделенное поразительно тонким и в то же время бесплодным умом, бледный, силуэт, похожий на тени из его диалогов, которые и i сами кажутся теперь чем-то выцветшим и поблекшим. И я думаю, что это был единственный настоящий «проклятый поэт» нашего времени, оградивший себя, что говорить, и от несчастий, и от боязни несчастий, но, за неспособностью полюбить вещи, обреченный довольствоваться идеями, словами (умопостигаемой частью слов), и лишенный той самой главной, смешанной со слезами, радости, которая разом вырывает творение поэта из теснящей его тьмы. Подлинное проклятие в этом мире — быть низведенным к игре. Стих Валери, живущий и питающийся только собственными правилами, эта смесь забавы и учености, эта шахматная партия, которую остроумец-поэт без конца разыгрывает с идеей или с эхом, есть сама ненадежность, сама унылость.
Что же нам осталось от Валери? Осталась эта игра как таковая, поскольку литература, бесспорно, нуждается в подобной негативной деятельности, восстанавливающей утонченность языка, прилежно накапливающей запасы изысканности (как бы мог выразиться он сам), которые позже единым духом растрачивают другие, более пылкие и безоглядные поэты. Но в некоторых его стихотворениях и кое-что иное, более важное, — тень, отбрасываемая тем проклятием, о котором я сказал. Например, змей, позволяющий Богу «торжествовать над его печалью» {49} 49 «торжествовать над его печалью» — цитата из завершающей строфы упомянутого стихотворения Валери.
, — его голос, вопреки ожиданиям звучит таю чисто, так искренне, так горячо, что это торжество Бога не кажется очевидным: поневоле думаешь, что прославление бытия, может быть, и впрямь непозволительно и что безучастность, выходит, более оправдана, чем отрицание или поклонение. Другой, и главный пример — «Кладбище у моря», самое прекрасное стихотворение Валери, потому что в нем он испытывает нерешительность. Здесь, в полуденной безбытийности, на берегу, где чистое ощущение и чистая мысль без конца отсылают друг к другу, все же смогло проявиться, прорваться на поверхность что-то неоформленное. В мерцании могил открывается какой-то вход. Какой-то иной лик света, какое-то, по словам Валери, «тайное изменение», какой-то «изъян» {50} 50 какое-то «тайное изменение», какой-то «изъян» — («secret changement», «défaut») — цитируются 13 и 14 строфы «Кладбища у моря», где «неподвижному Полдню (или Югу)» — «совершенной главе и безупречному венцу» — в качестве «тайного изменения» противопоставлено «я» лирического субъекта, чьи «раскаянья, сомненья, стесненья» и становятся «изъяном» этого громадного бриллианта». Ср. эти строфы в переводе Б.Лившица: Спят мертвецы в земле, своим покровом Их греющей, теплом снабжая новым. Юг наверху, всегда недвижный Юг Сам мыслится, себя собою меря… О Голова в блестящей фотосфере, Я тайный двигатель твоих потуг. Лишь я твои питаю опасенья. Мои раскаянья, мои сомненья — Одни — порок алмаза твоего!..
предлагают твердую почву. И, конечно же, то возможное, о котором говорит Пиндар {51} 51 то возможное, о котором говорит Пиндар — подразумевается эпиграф к «Кладбищу у моря» — начальные стихи III Пифийской оды Пиндара: «Не пытай бессмертия, милая душа, обопри на себя лишь посильное» (пер. М.Л.Гаспарова).
, допускает именно такое понимание. Но в дальнейшем Валери вновь решает предпочесть творческому страху, находящему утоление в бренном, бесцветное уныние, раскаленную и душную призрачность. Он возвращается к сверканию, слепящему глаза, к ощущениям, похожим на сон, к ветру, в котором нет ничего от ветра… Так утвердило себя — с новой силой — искусство строгой, замкнутой формы. В своем языке, лишенном немого «е» {52} 52 В своем языке, лишенном немого «е»… — о роли немого «е» в разрушении классической французской просодии см. эссе «Дело и место поэзии». По отношению к Рембо и Верлену Валери выступает как реставратор классических форм французского стиха.
— этой трещины, расколовшей монолит понятийности, этой догадки, которую содержит в себе сама материя нашего языка, этой исключительной удачи, выпавшей французам, — Валери рассудочно отождествляет форму с чертежом, с бесплотным жестом танцовщицы, с умозрительной гипотезой, так и не узнав, что форма существует только ради камня, иначе говоря — для того, чтобы смыкать свод над провалом и мраком. Нам нужно забыть Валери. Нам нужно стремиться к тому, чтобы форма была орантой, — новой, уже со свободными чертами лица, орантой, которую человек должен найти не только вне богословских, но и вне научных доктрин. [5] Можно ли сказать, что я «критикую» Валери? Мне кажется, я принимаю его всерьез, — честь, которую можно оказать лишь очень немногим писателям. И это писатели, живущие внутри нас. Нам приходится бороться с ними — так же, как приходится время от времени осуществлять жизненный выбор; бороться для того, чтобы жить. Эта борьба — наше глубоко личное дело. Она, может быть, напоминает пари, в том несколько торжественном смысле, какой обычно придают этому слову.
Дело и место поэзии [6] Перевод М.Гринберга.
{53} 53 Доклад, прочитанный в Коллеже философии; напечатан в марте 1959 г. в журнале «Lettres nouvelles» (nouvelle série, № 1–2).
Я хотел бы вновь соединить, хотел бы почти приравнять друг к другу поэзию и надежду. Но придется начать издалека, поскольку существуют две поэзии (так же, как и две надежды), и одна из них — призрачная, лживая и гибельная. Прежде всего я думаю о нашем великом отречении {54} 54 великое отречение (иначе: великий отказ, grand refus) — цитата из «Божественной комедии» Данте: «Я увидел и узнал тень того,// Кто из малодушия совершил великое отречение» (в переводе М. Лозинского: «…того, кто от великой доли// Отрекся в малодушии своем»). Данте говорит о папе Целестине V, сложившем с себя свой сан.
. Когда нам приходится «собираться с силами» (как говорят о том, с кем случилась беда), когда мы должны что-то противопоставить исчезновению любимого человека, обманувшему нас времени, бездне, разверзающейся в самом средоточии бытия или — как знать? — наших представлений о нем, мы, будто укрываясь в безопасном месте, прибегаем к словам. Мы видим в слове душу называемого им предмета, которая при любых обстоятельствах остается целой и невредимой. Уничтожая его принадлежность времени и пространству, отнимающих у нас все, чем мы владеем, и освобождая предмет от гнета вещественности, оно не наносит никакого ущерба его драгоценной сути, оно хочет лишь одного — вернуть этот предмет нашему желанию. Так Данте, потеряв Беатриче, произносит ее имя. Он взывает с помощью этого единственного слова к идее Беатриче, он заставляет ритм, рифмы и все средства торжественности, существующие в языке, возвести для нее какую-то высокую башню, построить для нее замок присутствия, бессмертия, возвращения. Поэзия этого рода, изо всех сил стараясь удержать то, что ей дорого, всегда стремится отстраниться от мира. И тем самым, причем очень легко, становится — или полагает, что стала, — одной из форм познания: ведь в таких стихах опасливая мысль поэта, отделяя сущее от естественных причинных связей, сообщая ему характер неподвижного абсолюта, воспринимает отношения между вещами уже только как аналогические и предпочитает указывать скорее на «соответствия» {55} 55 « соответствия » — имеется в виду одноименное стихотворение Бодлера и связанный с ним круг идеи.
вещей и их запредельную гармонию, чем на их неясный взаимный разлад. Познание — последнее средство, к которому прибегает тоска по утраченному. Его пускают в ход после жизненного крушения, и стихи в этом случае могли бы честно подтверждать, что мы несчастливы, если бы не их двусмысленность — их дразнящая лживость — заключающаяся в том, что они держат у нас перед глазами и ситуацию этого крушения, и то самое будущее, от которого мы столько ждали и которое пошло прахом. Этим настроением проникнуто «Воспоминание», наиболее «мечтательное» из стихотворений Артюра Рембо:
Интервал:
Закладка: