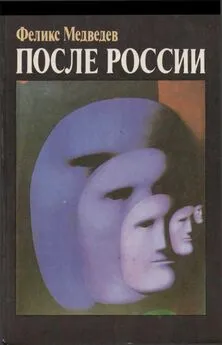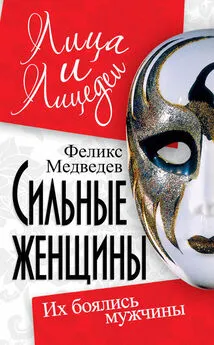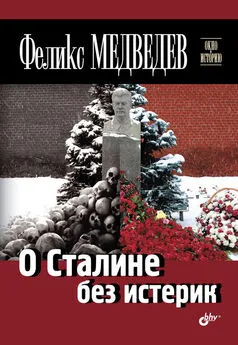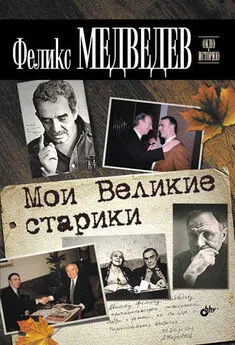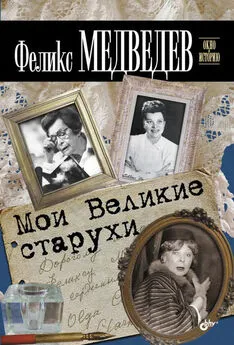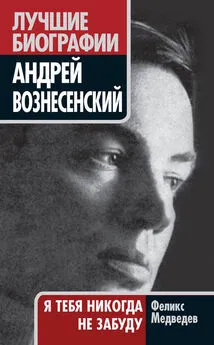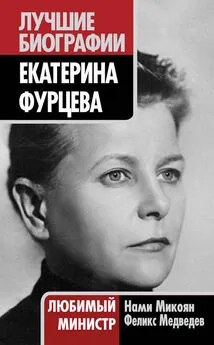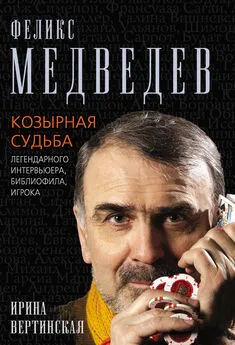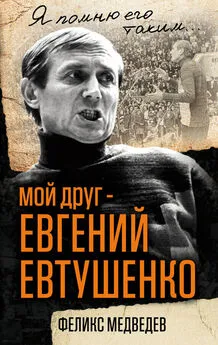Феликс Медведев - После России
- Название:После России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1992
- ISBN:5-250-01517-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Феликс Медведев - После России краткое содержание
Книга иллюстрирована и адресуется массовому читателю.
После России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ваши любимые герои в истории человечества?
Ваш любимый политический деятель?
Ваши книги забудут или они долго еще будут нужны людям?
Ваш прогноз: что будет с СССР в 2000 году?
Эти и другие вопросы я отослал по почте и стал ждать. Проходили месяцы. Я совсем потерял надежду, но однажды извлек из почтового ящика (заслуга перестройки: дошедший и не перлюстрированный) пакет из Мюнхена. Письмо начиналось так: «За несколько месяцев до отмены цензуры в СССР ко мне обратился с рядом письменных вопросов известный московский журналист Феликс Медведев, среди которых был и такой вопрос: «Ваше отношение к Рою Медведеву?» Поскольку я принципиально не давал интервью советской подцензурной печати, то я и отложил вопросы Ф. Медведева до «лучших времен». Эти времена наступили, когда мой старый «знакомый» Рой Медведев нашел нужным рассказать о своем собственном отношении ко мне, причем прямо с трибуны пленума ЦК КПСС. Теперь молчание не было бы понято…»
И далее мой почтенный корреспондент из Мюнхена подробно на двенадцати страницах рассказывает о роли Роя Медведева в диссидентском движении. Ответ Авторханова на мой вопрос о Р. Медведеве был неожиданным и познавательным. Но мне было непонятно, почему автор письма ограничился ответом только на один-единственный вопрос из тридцати восьми. Честно говоря, меня интересовала биография самого Авторханова, подробности его писательской и личной жизни. Но он на эти откровения, по-видимому, не решился. Поэтому я не включаю в книгу полемические размышления Авторханова о роли Р. Медведева в диссидентском движении. Тех же, кому все-таки интересно просветиться на этот счет, отсылаю к публикациям в журнале «Столица» (1991, № 1), «Русская мысль» (Париж, 1990), «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1990).
Скорблю, что упустил, как охотник долго подстерегаемую дичь, право первого интервью с дочерью Владимира Маяковского Патрицией Томпсон. О том, что жива дочь Маяковского, я знал давно. Точнее чувствовал по намекам известных поэтов, по «прикидкам» маяковове-дов. Как-то в разговоре обмолвился об этом и Василий Абгарович Катанян, прекрасно знавший биографию Владимира Владимировича. Совершенно определенно о том, что дочь Маяковского жива, знал Евгений Евтушенко, который рассказал, что однажды в Нью-Йорке на поэтическом вечере к нему подошла женщина с крупными чертами лица и объявила, что она дочь поэта Маяковского. Евгений Александрович не поверил. И зря. Момент «открытия» единственного дитя великого поэта был упущен еще на несколько лет.
Весной 1990 года младший Катанян — Василий Васильевич — мне сообщил, что наконец-то нашлась Патриция Томпсон, дочь Элли Джонс. Той самой, с которой у Маяковского был короткий роман во время поездки по Америке. И той самой, с которой он встречался в Ницце в 1928 году. Василий Васильевич дал мне приблизительные координаты людей, которым Патриция представилась как дочь поэта. Эти люди — организаторы художественных выставок в Штатах. Патриция Томпсон пришла на выставку, посвященную другу Маяковского Александру Родченко, художнику и фоторепортеру. Увидев на стене замечательный портрет поэта, она воскликнула: «Это Маяковский, мой отец! Па-а-па…»
О неожиданном событии узнали и в семье Родченко в Москве. Тем не менее найти телефон Патриции в Нью-Йорке было невозможно. Новоявленную «мессию» будто засекретили от лишних любопытных глаз и встреч. Кому это было нужно, не знаю. На мой телефаксный запрос о возможности организации встречи с дочерью Маяковского в Нью-Йорке какие-то люди ответили, что это невозможно, что будто бы она собирается в СССР. Приехала П. Томпсон в Москву лишь через год.
А я почти было купил билет в Нью-Йорк, полагая-таки разыскать интересующую меня героиню, как в довольно заштатном официозном журнале «Эхо планеты», органе ТАСС, появилась публикация о дочери Маяковского. Естественно, она не вызвала бы никакого эффекта. если бы коротенькие перепечатки не появились в некоторых московских большетиражных газетах. Я чуть не плакал от досады. Я считал, что, несмотря на сложнейшую политическую обстановку, событие, связанное с биографией «поэта революции» — «открытием» его дочери, которая могла пролить свет на весьма затемненные стороны творческой и личной судьбы Маяковского, должно было стать сенсацией. Любому журналисту такое интервью, первое интервью с Патрицией Томпсон могло сделать судьбу. Я представлял, какой бомбой прозвучал бы полосный материал о дочери Маяковского, опубликованный, скажем, в «Литературной газете». Но собкор «ЛГ» в Америке тоже прошляпил.
Единственное же, что меня успокаивает и льстит моему журналистскому самолюбию, что моя передача «Зеленая лампа» впервые сообщила телезрителям о том, что нашлась дочь Маяковского.
Перечитывая книгу, я задумался, и вот о чем. Словно на подбор в ней названы известнейшие имена, громкие фамилии, титулы. И вроде бы выпадают из этого ряда несколько имен. Ну, например, кто слышал о судьбах Марии Григорьевны и Эллы Ивченко из Вены? Ничего героического они в своей жизни, кажется, не совершили. Но в совокупности с рассказом о судьбе наследницы знатной русской фамилии Марии Разумовской жизнь и трагедия двух безвестных в прошлом советских женщин (одна из которых не решилась даже назвать свою фамилию) в «Венском триптихе» — это еще новые штрихи к страшным годам нашей недавней истории, всю правду о которых мы только сегодня начинаем познавать сполна. Графиня Разумовская не выезжала из России, она родилась в Австрии, но ее исследование трагической биографии Марины Цветаевой — это уже Россия Советская, это уже судьба человека, решившегося вернуться на родину и уничтоженного сталинским произволом.
Да было бы и несправедливо познавать трагедию диссидентства, отчужденчества, эмиграции только глазами наиболее удачливых, ставших знаменитыми людей. Вот произнес «трагедия эмиграции» и задумался. Вспомнил мнение о том, что, дескать, время, годы сотрут и эту боль изгнанничества и приестся читателям эмигрантская тема. В конце концов, вдали от родины — там — многим из них жилось сытно и уютно, а здесь, на отчей земле, было сиро и голодно. Так что кто выиграл, а кто проиграл, дескать, это еще вопрос. Не знаю, не буду судить. Да и не мне судить. Понимаю только, что моя журналистская работа на этой ниве не иссякнет. Скитальчество, поиски рая на земле, социальные катаклизмы, разобщенность народов и наций, религиозное непримиренчество и впредь будут разъединять людей. А значит, останутся такие понятия, как «русские в Париже», «советские кибуци под Иерусалимом», «наши на Брайтон-Бич», «русский маяк на Огненной Земле». К этим маякам будут тянуться те, кто отведал лучшей, счастливой жизни в «самом справедливом обществе на земле». Они по-прежнему будут очень разными, эти люди. У каждого из них будет своя жизнь, своя судьба, своя история. Но они не повторят трагедии Тихона Куликовского-Романова, Нины Берберовой, Андрея Синявского, Марии Григорьевны… Они взяли у жизни свои уроки. Уроки любви и ненависти к родине, к истине, к ближнему своему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: