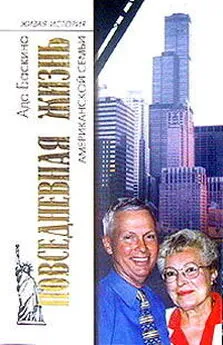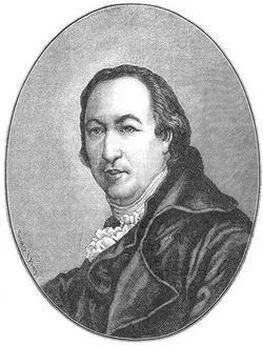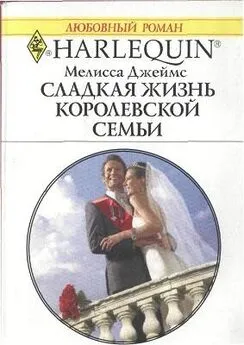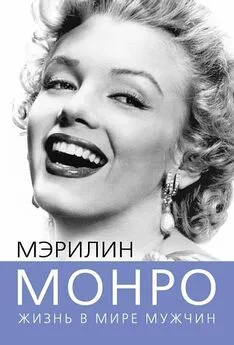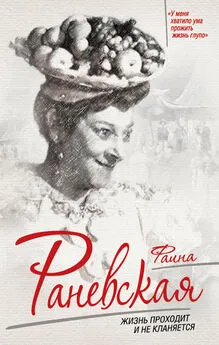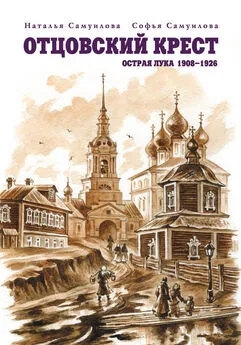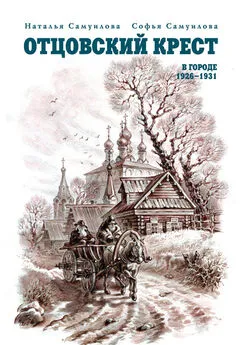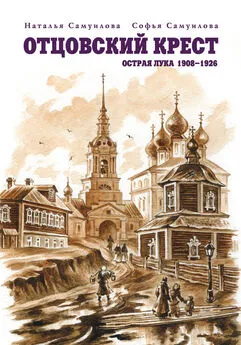Софья Самуилова - Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931
- Название:Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Никея»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-279-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Софья Самуилова - Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931 краткое содержание
Отцовский крест. Жизнь священника и его семьи в воспоминаниях дочерей. 1908–1931 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Так протухли? – немного успокоившись, спросил он. – Сильно пахнут? Вы слышали? И вы?
– Конечно, слышали. Пойдемте! По коридору пройти невозможно. П-в снова расхохотался.
– Да ведь мозг-то из папье-маше, – через силу проговорил он.
– Из чего? – переспросил Костя.
– Из картона, как ваши лошадки, – объяснил папа. – Он был сделан из кусочков, чтобы можно было их разбирать и смотреть, как мозг устроен внутри.
Раздавшийся после этих слов детский хохот, вероятно, заглушил бы смех П-ва. Во всяком случае, страх перед грозой он на некоторое время заглушил. А отец Сергий добавил:
– И что еще интереснее, запах сразу исчез. Ни в коридоре, ни в кабинете, нигде и никто его не чувствовал.
–
Это, кажется, называется массовым самовнушением? – тоже смеясь, спросила Евгения Викторовна.
– Кажется, так.
Было и еще одно средство борьбы со страхом. Детей натолкнули на новое удовольствие – бегать босиком по лужам. Отчасти-то они с этим удовольствием были знакомы и раньше, но оказалось, что приятнее всего бегать по ним под дождем. Сначала выбегали только на маленький дождик, потом на более сильный, наконец не отступали и перед настоящим ливнем. Правда, если начиналась серьезная гроза, детей загоняли домой, а если не большая, они все равно бегали. Евгения Викторовна тоже требовала, чтобы прежде, чем бежать под дождь, дети переодевались в подлежащую стирке одежду. Ведь возвращались они мокрые до нитки и так забрызганные грязью, что приходилось прямо на крыльце мыть ноги чуть ли не по пояс, а потом переодеваться. Но это никого не смущало. Разве только иногда вмешивалась Наташа. Потому что борьба со страхом грозы, а потом новый вид спорта продолжались несколько лет, и за это время Наташа успела не только родиться, но и достичь того солидного возраста, когда можно вмешиваться в чужие дела. Так вот, Наташа слышала, как мама зимой грозила непослушным: «Не буду за вами ухаживать, если вы простудитесь и заболеете!» – и теперь сама с авторитетным видом подавала голос:
– Если будете бегать по дождю и заболеете, мама не будет за вами ухаживать-прихаживать!
В этой истории есть и еще один заслуживающий внимания момент. Евгения Викторовна, сумевшая блестяще провести нелегкую воспитательную работу и добившаяся того, что дети не только перестали бояться, но и полюбили грозу, сама всю жизнь не могла отделаться от страха перед ней. Много лет спустя после ее смерти, когда все дети были уже взрослыми, отец Сергий сказал однажды, прислушиваясь к следовавшим один за другим раскатам грома:
– А как мама боялась грозы!
– Очень боялась. Она даже не могла спать, если ночью была гроза.
Тут только Соня по-новому переосмыслила некоторые факты. Сколько раз, бывало, просыпаясь во время грозы, она видела зажженную свечу на полочке перед зеркалом и чувствовала, как мама вешает на спинку ее кровати и тщательно просовывает между кроватью и подушкой сложенную в несколько раз большую байковую шаль, детское стеганое одеяльце или еще что-нибудь в этом роде. Утром оказывалось, что подобным образом закрыты все кровати, и у изголовий, и в ногах. Тогда это казалось Соне вполне естественным. Как от дождя открывают зонтик, так от молнии нужно изолировать все близко находящиеся к людям металлические предметы.
В книге Фламмариона «Атмосфера», которую и мать, и де ти любили перечитывать, в главе «Капризы молнии» указываются случаи, когда люди погибали от молнии, ударившей в спинку кровати или другой подобный предмет. Да, тогда Евгения Викторовна сумела обосновать свои заботы «по-научному», и только сейчас Соня поняла, что эти «научные» заботы внушались непреодолимым страхом. Но сколько нужно было выдержки, чтобы за все время ни разу не выдать себя детям!
Когда мальчикам было лет шесть – восемь, утро у них начиналось с возни – борьбы, беззлобной драки. И нередко зачинщиком был Костя, хотя он и знал, что Миша всегда догонит его, повалит, хлопнет – словом, повернет исход борьбы так, как ему захочется. Но у Кости было несколько способов, при помощи которых он мог выйти сухим из воды. Один из них оказывался совершенно непреодолимым для Миши. Выбрав удобный момент, когда брат завязывал ботинки или был отвлечен другим, не менее серьезным делом, Костя хлопал его по плечу и своим неловким, почти ковыляющим шагом спешил в залу, в передний угол. Там он останавливался перед иконами и начинал быстро креститься. Миша отступал; нападать на молящегося даже не запрещалось, а просто было совершенно невозможно. Однажды отец Сергий заметил этот маневр.
– Ты что, новый способ защиты нашел? – строго сказал он Косте. – А ты понимаешь, что таким образом превращаешь молитву в игру, даже в шалость? А о чем ты думаешь, когда вот так стоишь и крестишься? О молитве, которую должен читать, или о том, как ловко обманул Мишу? Ты меня понял?
– Понял, – ответил Костя. – Я больше не буду.
Еще от одной опасности приходилось тщательно охранять детей. Это были «плохие слова». Мир, окружающий их, был не так уж невинен, он кишел «плохими словами» всех видов, от тех, которые были изгнаны только из их обихода, до настоящих нецензурных. Матушка ужаснулась бы, если бы услышала тот жаргон, который раздавался иногда в кухне. У села свои правила приличия: едва терпя в своей среде человека, который «черным словом ругается», оно гораздо снисходительнее к некоторым выражениям, граничащим с матом; такие слова употребляли даже девчонки-няньки.
Опасность была тем серьезнее, что Евгения Викторовна не могла постоянно ограждать от нее детей, для этого с них вообще нужно было не спускать глаз. Впрочем, возможно, она так и поступила бы, если бы яснее представляла положение.
Но, и не представляя его, она каким-то образом, по-видимому еще в самом раннем детстве, сумела внушить детям, что они должны говорить только тем языком, которым говорят их отец и мать. Может быть, тут сказывалось и то, что их «городской» язык вообще сильно отличался от языка села. По той или иной причине никогда не было случаев, чтобы дети повторили одно из услышанных в кухне нецензурных слов. Слова были совершенно определенно «плохие», но и совершенно непонятные; правильнее всего будет сказать, что дети «слыша, не слышали их». Впрочем, возможно, что сама матушка как-то о них узнала и подобрала более подходящих людей. С некоторого времени эти слова исчезли и в кухне.
А с другими приходилось вести длительную и упорную войну. Она начиналась, кажется, еще тогда, когда Соне было года два. К ее няне Маше часто приходила старшая сестра Анюта. Однажды, не поостерегшись, она за что-то назвала Машу дурой. И уже через пару часов Соня, копаясь в своих игрушках, повторяла:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: