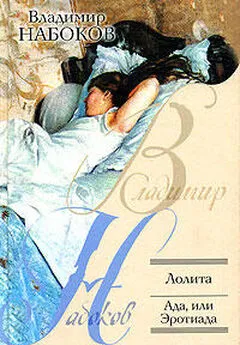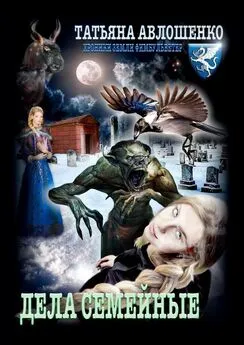Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника
- Название:Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1575-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника краткое содержание
Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разгадка вскоре пришла — это был скетч на тему «Пастернак».
Через несколько дней мы у того же приемника слушали, как секретарь комсомола Семичасный на Ленинском стадионе громил того же Пастернака, допуская такие фразы: «Автора „Доктора Живаго“ я не могу сравнить со свиньей, потому что он — хуже. Свинья не гадит там, где она ест, а Пастернак сделал именно это!»
У меня сохранилась карикатура того времени под названием «Нобелевское лицо», помещенная в «Комсомольской правде» от 29 октября 1958 года. Рисунок изображает трех злонамеренных людей (один из них в поварском колпаке), варящих какой-то зловредный суп. Анонимная рука подливает в кастрюлю жидкость из сосуда, имеющего форму книги с надписью «Доктор Живаго». Другая анонимная рука держит чек на Нобелевскую премию. Под карикатурой стихи Михалкова весьма низкого качества.
Почти никто в Советском Союзе не читал романа Пастернака и не мог о нем судить. Те же немногие, которым это удалось, не находили в «Докторе Живаго» ни политически предосудительных мест, ни выдающихся литературных достоинств и объясняли мировую известность этого произведения как раз шумихой, которая вокруг него была поднята.
Теперь, когда страсти вокруг покойного Пастернака, отказавшегося от премии, улеглись, я все же с горечью вспоминаю о методах того времени и о качестве острот Михалкова.
Пока Ляля гостила у меня, до нее дошла весть, что у ее сына Андрея, женатого вторым браком на сотруднице-спортсменке, должен родиться ребенок. Ляля встретила это сообщение без энтузиазма, но когда факт свершился и на свет появился внук, она вся ушла в новую привязанность и морально отошла от всего, что только не Вовочка (за исключением, может быть, книжек).
По моим наблюдениям, развелось за последнее время особенно много «бабушек-фанатичек», что довольно скучно для окружающих, но, возможно, более полезно, чем писание мемуаров, которые никто читать не будет. Таков голос рассудка, но ни один автор в глубине души не хочет верить в бесцельность своего труда, и, на тот случай, если записки мои попадут в руки читателя, интересующегося не только «бытовыми подробностями» тяжелых лет России, но и судьбой упомянутых лиц, я должна закрыть «личный счет» этих лиц, рассказать, что с ними случилось в конце их жизненного пути.
Вспоминая дела давно минувших лет, начинаю с белокурого лицеиста Андрюши Гравеса с лицом Гретхен и душой, страдающей за мировое зло, прошедшего через мою жизнь, далекой, но всегда светлой полосой.
Вернувшись в 1918 году в Россию из трехлетнего пребывания в германском плену, куда он попал со своей артиллерийской бригадой во время окружения 20-го корпуса в Восточной Пруссии, Андрюша Гравес не застал меня в Москве (я жила в Козельске) и, по-видимому, ошеломленный всем тем, что увидел в годы крушения Российской империи, уехал на Урал. Там он кочевал из одного города в другой, женился и поселился в городе Свердловске, где начал быстро преуспевать на поприще экономиста. Когда я, после десятилетнего перерыва, встретилась с ним в Москве в 1924 году, он уже был коммерческим директором какого-то крупного уральского треста и половину времени проводил в столице как представитель своего учреждения.
Встретились мы весьма дружески и во время моих наездов из Калуги старались вместе посмотреть все интересное, что давалось тогда в московских театрах. А интересного было много и у Вахтангова, и в Камерном театре. «Дни Турбиных» я смотрела одна в 1925 году, когда спектакль еще не успел подвергнуться цензурным изменениям, и в лице Алексея Турбина (играл Хмелев) оплакала ту Россию, с которой была связана с детства. Причем я была не одинока в своих чувствах — справа и слева сидели люди, прижимавшие к глазам мокрые от слез платки.
Коснувшись, хотя и мельком, имени Булгакова, человека не только большого таланта, но и великой смелости, хочу напомнить случай с его рассказом «Роковые яйца», напечатанным в журнале «Недра» за 1925 год. Не успели мы вдоволь насмеяться над этим фантастическим и немного озорным памфлетом, как цензура спохватилась и выпуск журнала «Недра», содержащий крамольный рассказ, был конфискован, став библиографической редкостью. В конце 20-х годов я встретила Булгакова у Ан-ночки Толстой. В то время я уже была обладательницей большой и хорошо обставленной комнаты на Мойке, и на следующий день Анночка спросила, не могу ли я уступить эту комнату на месяц Булгакову, который ищет временное пристанище в Ленинграде. Я уже была склонна это сделать, когда вспомнила о бурном характере моей соседки Евгении Назарьевны, и не рискнула подвергать Булгакова встречам с этим Неистовым Роландом. Так мое более близкое знакомство с Михаилом Афанасьевичем не состоялось.
Поставив точку, я спохватилась, как далеко ушла от основной темы подведения итогов. Возвращаюсь к Гравесу.
Моя высылка из Ленинграда и пребывание в лагере привели к тому, что в течение десяти лет мы ничего друг о друге не знали. Приехав в середине сороковых годов в Москву, я разыскала Сережу Попова и узнала ошеломившую меня своей нелепостью новость. Как человек, носящий немецкую фамилию, Андрюша Гравес был отправлен в пожизненную ссылку на северный Урал, и жил в полном одиночестве в городе Карпинске (бывшем Богословске), преподавал экономические науки в техникуме и не имел никаких надежд на будущее, поскольку ссылка была пожизненной.
Мое неожиданное письмо стало не только (как он выразился) «солнечным лучом в темном царстве», но «видением из потустороннего мира», так как он считал меня погибшей. На моем столе лежит связка его писем, содержащих много верных мыслей и наблюдений. В ответ на мое напоминание о его юношеской сентенции, что «жизнь есть позолоченный орех», бедный поселенец написал: «Жизнь остается орехом, но уже не позолоченным. Во всяком случае, моя!» Во всех письмах сквозило желание уйти от действительности в область воспоминаний о нашей юности, и заканчивались они обычно чем-то вроде бунинских слов «До меня долетает свет от улыбки твоей!».
Но вот наступил 1954 год и с ним оттепель для окоченевших человеческих сердец. С Андрея Федоровича сняли его опалу, и по пути в Москву он заехал ко мне в Вятские Поляны. Встреча наша была затаенно-грустной, и боюсь, он не увидел в моей улыбке «света юношеских дней».
Во время моих приездов в Москву мы с ним виделись всегда. Иногда сидели на скамейке Пречистенского бульвара, смотря на Удельный дом. Но я замечала, что он серьезно болен. Осенью 1962 года он уже не смог ко мне прийти, и на Бронной у Ляли я получила короткое письмо: «Жалею, что не могу Вас видеть, но хорошо, что не придется говорить о болезни. Сердце ослабело. Ну да так, видно, предназначено! Ваш Андрей Г.!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: