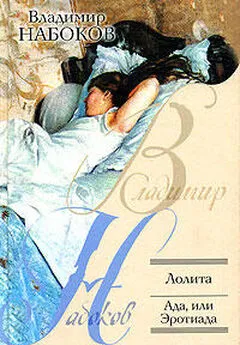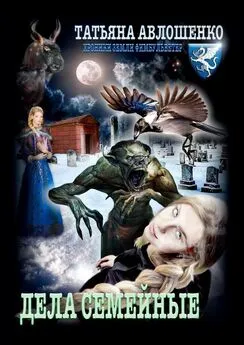Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника
- Название:Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1575-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника краткое содержание
Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вяземский умер на несколько лет раньше мамы, причем некоторое время был слепым. В своих кратких письмах мама вспоминала о нем с любовью и жалостью. Дима находился где-то в Ливане и, к моему великому огорчению, не всегда помнил то, чем был обязан «Пафке» (так он звал маму в детстве). Некоторым утешением для меня было узнать, что до последних дней у мамы оставалось много друзей. Ее могила была завалена цветами. (Вскоре, по-видимому, умерла и Наталия Сергеевна Брасова.)
Все эти скудные сведения дошли до меня кружным путем. Мама писала Нате и никогда не узнала слов «Вятские Поляны», где я находилась, так как отец взял с меня торжественное обещание, что я не дам в Париж своего адреса («Неужели ты еще мало пострадала?!» — говорил он, когда находился в хорошем настроении, а когда был не в духе, ворчал: «Видимо, тебя еще мало учили?!»). Все это может показаться, мягко говоря, «странным», но таково было знамение тех лет.
Однако время не стояло на месте; пришла весна, а за нею лето 1953 года. Наступили многообещающие перемены. Живя в маленьком городке, я воспринимала события, потрясающие Москву, в отраженном аспекте и, будучи «ученой», не рисковала делать ежедневных записей, о чем теперь сожалею. После смерти Сталина страна огласилась непрерывающимися звуками траурных мелодий и истерическими воплями осиротевших верноподданных. Допускаю, что часть слез можно было отнести за счет торжественных звуков Моцарта и Шопена. (В последнем я еще более убедилась, когда узнала от Петра Григорьевича Трубецкого, что на траурном митинге в Кирове плакал… Василий Николаевич Батюшков!) Во всяком случае, прочно вбитые рефлексы действовали безотказно!
Что касается меня, то, стоя на собрании в конторе больницы среди рыдающих сестер и санитарок, я упорно смотрела вниз, боясь, что окружающие увидят исходящие из моих глаз лучи радости и надежды!
Вскоре из Москвы стали поступать слухи о невероятной давке с сотнями человеческих жертв, которая произошла на улицах во время прощания со Сталиным. Это было нечто, напоминающее Ходынку 1896 года. Люди давили друг друга и гибли сами, устремляясь к саркофагу.
Летом 1953 года были разоблачены Берия и его ближайшие сподвижники. Стали появляться благоприятные симптомы: так, например, выпустили на свободу группу известных врачей, арестованных по доносу провокаторши Лидии Тимашук, награжденной «за бдительность» орденом Ленина. Врачи Виноградов, Вовси, двое Коганов и другие обвинялись в заговоре (видимо, против Сталина), и им грозил неминуемый расстрел, когда, на их счастье, наступил политический рассвет и все они, за исключением двух, умерших в тюрьме, были реабилитированы и выпущены на свободу. У Лидии Тимашук отобрали орден и вскоре она, судя по газетам, погибла в автомобильной катастрофе.
В нашей семье первой выпущенной на свободу «ласточкой» была Лиза Шереметева-Чижова. Весной 1954 года она примчалась со строительства на реке Уфе, имея на руках никем доселе не виданный документ: справку Военного трибунала о том, что дело ее (семнадцатилетней давности) пересмотрено и прекращено «за отсутствием состава преступления». Лиза тут же получила московский паспорт и была прописана в Шереметевском переулке. Быстрота пересмотра объясняется тем, что Лизу «судила» московская тройка, а разбор дел начался с Москвы. Нам же, провинциалам, пришлось еще долго ждать восстановления своих прав и пессимисты говорили: «Пока солнце взойдет — роса глаза выест».
Не принадлежа к пессимистам и окрыленная надеждами, осенью я вновь рискнула провести свой отпуск в Москве и даже совершила оттуда приятную поездку к Анночке Толстой-Поповой на ее дачу под Звенигородом. На этот раз все прошло гладко, но настроение омрачилось тем, что мой отец уже страдал неизлечимой болезнью, о которой мы не подозревали, с повышенной нервностью относился к моим «экспериментам» и успокоился только тогда, когда узнал, что я благополучно вернулась и засела за больничный годовой отчет в назначенных мне на жительство Вятских Полянах.
В половине декабря я получила ошеломившее меня письмо от Лидии Дмитриевны Некрасовой, в котором она сообщала, что Борис тяжело болен и помещен на обследование в больницу Склифосовского, в палату Сергея Сергеевича Юдина. Я поняла, что имеется подозрение на рак, от которого умерла его мать, и попросила опровергнуть или подтвердить мои подозрения. На это последовала телеграмма: «Ваши подозрения оправдались».
Наступил 1954 год. В первой половине февраля заведующая райздравом Плавинская, главврач Глушаева и я отправились в Киров для сдачи годового отчета. Пока мы «ходили по мукам», переходя из одного отдела в другой, на мое имя пришла переданная из Вятских Полян телеграмма: «Состояние Бориса безнадежно. Случай неоперабельный». Мои «начальницы», подходя ко мне для ее вручения, боялись, что я брошу все дела и сразу помчусь в Москву. Такой поспешности я не проявила, но, когда обходной лист был подписан, я, вместо того чтобы возвращаться в Поляны, села в московский поезд, считая телеграмму равносильной вызову, на который нельзя не реагировать. В пути я стала сомневаться в правильности принятого решения.
Для начала отец «окатил меня ушатом холодной воды». «Вот как ты заботишься о моем спокойствии! Ты знаешь, как тревожно я воспринимаю твои нелегальные разъезды, а тут ты срываешься по первому зову, без всякой необходимости». На это возразить было нечего. Позвонив по телефону, я узнала, что Борис перевезен из больницы домой и не знает о тяжести своего заболевания, считая, что у него язва желудка. Тут я стала совсем в тупик: чем можно будет объяснить мое появление у него на квартире, которую мы с Лялей Базилевской называли в шутку «цитаделью», так как он туда никого не приглашал. Я поняла, что Лидия Дмитриевна в смятении чувств отправила мне телеграмму, не обдумав, что из этого выйдет. Чтобы обсудить план действий, мы с ней встретились в зале почтамта на Мясницкой улице.
Несмотря на присущую Лидии Дмитриевне сдержанность, видно было, сколь глубоко она потрясена. Возможно, к ее горю примешивалось мучительное недоумение: как могла она не заметить развития болезни Бориса до тех пор, пока лично знакомый ей Юдин не сказал, что сделать уже ничего нельзя. Наше совещание на почтамте ни к чему толковому не привело, и мои два посещения Бориса «у одра его болезни» были в достаточной мере неоправданными. Он с некоторым раздражением говорил о своей «язвенной болезни», я говорила о каких-то пустяках, удивляясь благообразию и даже красоте его лица, не носившего никаких следов раковой кахексии. Двадцать шестого февраля я уехала в Поляны, а через несколько дней — 3 марта — он скончался и был похоронен на Пятницком кладбище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: