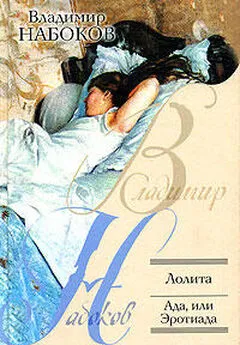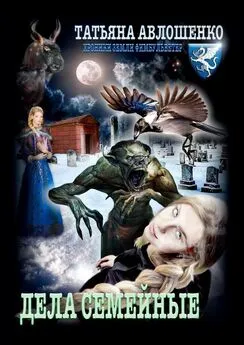Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника
- Название:Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1575-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника краткое содержание
Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дело в том, что накануне аладинская управительница Соня (бывшая горничная, вышедшая замуж за арендатора-мельника) прибежала с известием, что молодой князь Вяземский (брат упоминавшейся Нади) и девица Кашкарова приехали верхом в сосенник, привязали лошадей и стали гулять по дорожкам, попирая суверенные права владелицы.
Замечаю, что течение моего рассказа снова подводит меня к семье Вяземских, и попытаюсь здесь сообщить то, что я знаю о ее членах, отчасти со слов других, отчасти по собственным наблюдениям.
Купивший у Воейкова Попелево князь Алексей Алексеевич Вяземский был тихий человек очень высокого роста, любивший сидеть дома и трудиться за токарным станком. О его жене, Марии Владимировне, я уже говорила, добавлю только, что эта по природе своей умная, властная и взбалмошная женщина имела способность создавать вокруг себя цыганский табор: постоянные поклонники, гости и приживальщики составляли пеструю и шумную ее свиту.
В конце 80-х годов в списке поклонников Марии Владимировны числился сосед по имению князь Алексей Дмитриевич Оболенский, впоследствии обер-прокурор Священного Синода. Село Березичи, принадлежащее Оболенским, стояло на берегу Жиздры по другую сторону Козельска и упоминалось мною в связи с тем, что его владелец, дед Алексея Дмитриевича, был дружен с Чебышёвыми и, как предводитель дворянства, содействовал помещению сумасшедшего Афанасия Григорьевича в Калужскую больницу. Тетушки Анна и Авдотья Афанасьевны еще поддерживали отношения с Дарьей Петровной, матерью Алексея Дмитриевича, но впоследствии отношения между Березичами и Аладиным заглохли.
Сыновья Дарьи Петровны сделали блестящую служебную и придворную карьеру благодаря выгодным женитьбам и близкой дружбе младшего из них, Николая Дмитриевича (так называемого Котика Оболенского), с наследником, впоследствии Николаем II. Это породило светскую поговорку о том, что «Оболенские живут котиковым промыслом».
Алексей Дмитриевич был человек небольшого роста с лицом монгольского склада, умный и весьма осторожный. В губернии его называли «лукавый царедворец». Собираясь жениться на княжне Салтыковой, он, во избежание всяких конфликтов, исхлопотал Алексею Алексеевичу место могилевского вице-губернатора, и Мария Владимировна вместе с окружавшим ее табором на несколько лет перекочевала в Могилев.
Детей у Вяземских было двое: Надежда и Владимир. Воспитание они получили довольно беспорядочное: Надя почему-то училась в Могилевском епархиальном училище, а Володя был отдан в Орловский корпус, откуда его исключили потом за какую-то шалость.
В конце 90-х годов Алексей Алексеевич ушел в отставку и поселился в Попелеве — с Надей и Володей, тогда как Мария Владимировна, забрав младших своих детей, Прасковью и Николая, переехала к их фактическому отцу Алексею Николаевичу Ергольскому. Именье Ергольских Клюксы стояло на левом берегу Жиздры, немного выше Березичей. Деревни к югу от Козельска до сих пор хранят в своих названиях следы татарского нашествия — первая же в этом направлении деревушка, где в 1332 году стояла осаждавшая Козельск рать, так и называется Орденки.
Клюксы унаследовал неженатый Андрей Николаевич Ергольский. Алексей же Николаевич, получив лесной участок на правом берегу реки, построил там дачу под названием «Отрада». Туда-то и поехала старшая дочь Марии Аркадьевны Запольской в качестве гувернантки.
В ближайшем окружении Марии Владимировны постоянно присутствовали два ее брата Петр и Алексей Блохины. Первый в молодости служил в каком-то кавалерийском полку, в каком именно выяснить было трудно, так как он постоянно менял околыши своей фуражки, а рассказы его были сбивчивы; он оказывался то «павлоградцем», то «глуховцем». Представляясь, Петр Владимирович говорил: «штаб-ротмистр Государя моего!»
У Петра Владимировича было небольшое имение на берегу Серёны, где он жил со своей многочисленной, но не совсем «оформленной» семьей. Семья эта состояла из Надежды Васильевны, по первому мужу Заседателевой, и многочисленных детей, которых Петр Владимирович постепенно «оформлял». Часть зимы Петр Владимирович проводил в Москве. Он знал толк в лошадях и до самой революции служил стартером на бегах. Вращаясь в обществе коннозаводчиков, Петр Владимирович обладал некоторым светским лоском, чего никак нельзя было сказать о его брате Алексее; последний, покинув свою жену (которая была дочерью дьячка) и ее многочисленное потомство на попечение сестры, Марии Владимировны, сошелся с попелевской крестьянкой Фионой и поселился в деревне, отличаясь от остальных мужиков только тем, что больше дрался и требовал к себе некоторого почтения как к барину. Вместе с тем он был умнее брата Петра, не предавался фантастике и трезво смотрел на вещи. В 1902 году Алексей Алексеевич умер и был похоронен в ограде попелевской церкви. По его завещанию, младшие дети не только унаследовали его имя, но получили наиболее ценную часть имущества — имение Церлево в Темниковском уезде Тамбовской губернии. За сыном Владимиром осталось Попелево; Надежде Алексеевне было выделено небольшое поместье Плюсково на реке Серёне, стоявшее против аксаковского Антипова, но жить она временно осталась с братом в Попелеве.
После смерти отца Владимир Вяземский всецело подпал под влияние дядюшек Блохиных, что отнюдь не способствовало упорядочению его жизни. По комнатам попелевского дома бродили собаки, повсюду валялись уздечки, нагайки и охотничьи принадлежности. Главное богатство Попелева — сорокадесятинный фруктовый сад — был весьма невыгодно сдан в долгосрочную аренду. Остальное хозяйство перешло в руки Алексея Владимировича, а молодой хозяин проводил время на охоте у матери в «Отраде» и в разъездах по округе. На деревне ни одна свадьба, ни один престольный праздник не обходился без него. Крестьяне любили «простого» барина, шли к нему и за веревкой, и за бороной, как в собственный сарай, и не обижались, если он, по пьяному делу, давал кому-нибудь по шее.
Внешне Вяземский в ту пору был типичным «добрым молодцем». Громадного роста — всегда на полголовы выше самых высоких окружающих, с волосами, расчесанными на прямой пробор, низким лбом, круглым лицом, серыми, оттененными темными ресницами глазами, он не мог назваться красивым, но был во всяком случае видным малым.
Летом 1907 года мама и тетя Лина сидели в ожидании поезда на станции Сухиничи-Узловые. В зал шумно вломились два пассажира: Владимир Вяземский в белой поддевке и дворянской фуражке (той самой, которая называлась «не бей меня») и Илья Львович Толстой. Мама и ее сестра в то время были с ними не знакомы, но из разговоров вновь прибывших можно было понять, что они едут из «Отрады» в Калугу. Оба находились в приподнятом настроении. Калужский поезд опаздывал. Ждать было скучно, и оба путешественника, еще раз подкрепившись в буфете, принялись вымещать свой гнев на дежурном по станции, причем это делалось способами не только не соответствующими теории непротивления злу, но переносившими в эпоху пушкинских станционных смотрителей и нетерпеливых фельдъегерей. Мама рассказывала об этой сцене с порицанием, а более радикально настроенная тетя Лина — с ярым возмущением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: