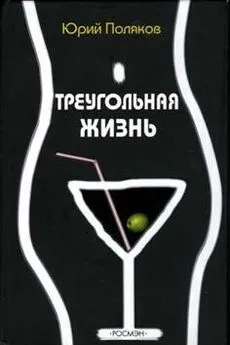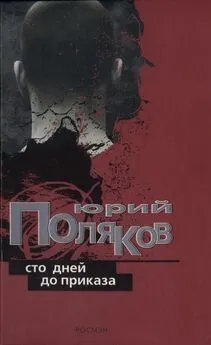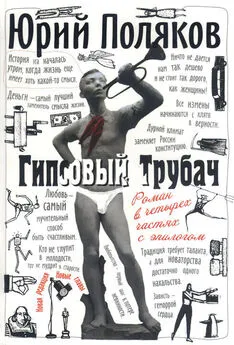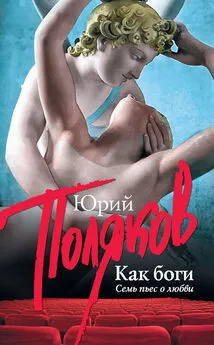Юрий Поляков - Селфи с музой. Рассказы о писательстве
- Название:Селфи с музой. Рассказы о писательстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аргументы недели
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6043544-7-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - Селфи с музой. Рассказы о писательстве краткое содержание
Селфи с музой. Рассказы о писательстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Скажите, кому принадлежит дача, где живёт мсье Окуджава?
– Союзу писателей.
– Но ведь тогда он лишится дачи! – изумился рассудительный галл.
– Булат Шавлович, видимо, полагает, что дачу ему оставят в благодарность за ликвидацию Союза писателей, – с улыбкой ответил я и поймал на себе удивлённый взгляд Аллы.
И вот теперь, позвонив, Шевелкина сообщила, что знаменитое издательство «Галлимар» ищет современные русские романы, где события так или иначе связаны с Францией. «Нет ли у вас чего-нибудь такого?» – «Есть!» – бодро отозвался я, соврав лишь отчасти. Мне давно уже хотелось написать что-нибудь трогательное и смешное о советских людях за границей, ибо я, спасибо комсомолу и Союзу писателей, частенько выезжал за рубеж и насмотрелся там всякого. Но замысел я откладывал, колебался, в какую страну отправить будущих моих героев. И во время телефонного разговора с Аллой меня осенило – в Париж! Любовь в Париже казалась вершиной изысканной романтики.
«Подумаешь!» – молвит читатель, наслышанный, что сегодня набережные Сены оглашаются пьяными матюками новых русских гораздо чаще, чем звуками, которые издают не чуждые алкоголя франкофоны. Но я прошу вернуться в 1989 год, когда выезд за рубеж для многих был чем-то средним между рейдом в тыл врага и ознакомительной экскурсией по райским кущам. Мне к тому времени удалось побывать в разных странах. Я очень хорошо помнил тот холодок в груди, когда руководитель группы, насосавшись валидола, совершенно серьёзно обещал за опоздание к месту сбора делегации сделать меня невыездным навсегда. Он ведь мысленно записал меня в невозвращенцы и готовил оправдательную речь, чтобы парткомиссия сжалилась, влепив ему выговор без занесения в учётную карточку.
Помню забавный случай. Проведя дни журнала «Юность» в Германии, мы возвращались домой через Франкфурт-на-Майне, а аэропорт там такой огромный, что обслуживающий персонал разъезжает на велосипедах. Ну и понятно, магазинов беспошлинной торговли там столько, сколько тогда не было во всей Москве. Как стало известно позже, две редакционные дамы из нашей делегации в сопровождении фотокорреспондента заблудились в дебрях западного изобилия и опоздали к вылету.
В те годы из-за первых терактов ввели новый порядок посадки на самолёт. У трапа на специальных многоярусных стеллажах стоял весь зарегистрированный багаж. Каждый пассажир, перед тем как подняться по трапу, указывал на свой чемодан, а полицейский внимательно сверял оторванный корешок с биркой. Тогда наивно считали, что никто сам себя взрывать в воздухе не станет. Лишь после этого твой багаж по транспортёру попадал во чрево самолёта, а ты мог занять своё кресло. Постепенно стеллаж опустел, и на нём остались лишь знакомые мне баулы пропавших членов делегации. Сначала экипаж переговаривался с кем-то по рации, потом советовался с прибывшим начальством, затем ко мне подошёл сотрудник «Аэрофлота» и спросил:
– Это были ваши коллеги?
– Да, мои… были… – осторожно подтвердил я, зная, что «коллегами» их можно считать, пока они не попросили политического убежища за рубежом.
– Мы больше не можем ждать! – пожал плечами аэрофлотовец.
И мы взлетели. Тогда ещё в самолётах на международных линиях можно было курить, а наливали, пока ты мог выпивать. Некоторые основательно расслабившиеся граждане, пуская в мою сторону табачный дым, громко обсуждали нештатную ситуацию.
– Слышали, трое умных журналистов слиняли?
– А этот?
– А этот дурак возвращается…
В Шереметьево-2, в сравнении с Франкфуртом, тесном, как садовый домик, ожидая багаж, я вдруг столкнулся с Андреем Дементьевым, тоже прилетевшим откуда-то. Всегда весёлый, загорелый и белозубый, он обрадовался, стал расспрашивать, как прошли встречи с немецкими читателями, где мы были, что купили, сколько свиных ног с пивом осилили. Потом, живо озираясь, спросил:
– А где девчонки?
– Остались… – машинально ответил я.
– Как остались? – Он посерел, словно архивный листок, и его рука взялась за сердце.
Глагол «остаться» по отношению к загранкомандированным имел только одно значение – «выбрать свободу». А это скандал на весь мир и большие неприятности, ибо руководитель нёс персональную ответственность за возвращаемость своих подчинённых из-за рубежа.
– В смысле опоздали. Скоро прилетят! – поняв свою оплошность, пояснил я.
Живые оттенки вернулись в лицо главного редактора, и он с облегчением выругался, пообещав впаять всем опоздавшим по выговору.
Да, путешествие за рубеж в ту пору таило в себе серьёзные опасности. О, как же трепетало моё сердце, когда я проносил через таможню мимо бдительных стражей затаившиеся в недрах набитого чемодана бунинские «Окаянные дни»! Страну с истошной бдительностью оберегали от эмигрантских книжек, а надо бы беречь от книжников и фарисеев с партбилетами в карманах. Кто знает, может быть, эта осточертевшая всем бдительность и была задумана исключительно для того, чтобы всем осточертеть?
2. Наши за границей
Тема «русские за границей» – одна из самых распространённых в отечественной литературе. А какие авторы! Карамзин, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Достоевский!.. Читая их, я, советский человек не в самом худшем смысле этого слова, поражался тому, как спокойно и уверенно чувствовали себя за границей наши классики и их герои, принадлежавшие, правда, к правящему классу. После революции ситуация изменилась: русские за границей жили, как правило, не очень хорошо. Даже лауреат Нобелевской премии Бунин не жировал, а бывшие старшие офицеры были счастливы, достав в Париже место таксиста. Правда, некоторые благодаря природной русской смётке поднялись, разбогатели, но вот беда: их дети уже чувствовали себя полурусскими, а внуки – совершеннейшими французами. Грустно видеть Рюриковичей, которые наезжают в Москву на званые обеды и обедни, роняют слёзы и признаются в любви земле предков, грассируя на каком-то вороньем суржике. А помните, как в 1990-е нам прочили в цари вьюношу Романова – толстомясого чернявого киндера, ни бельмеса не понимавшего по-русски?
Увы, это наша опасная национальная особенность-склонность к ассимиляции. Русская общность держится не на кровной близости, а за счёт внешнего давления, государственных скреп и общих целей. Зайдите на свадьбу или юбилей русского и, скажем, кавказца, даже в Москве живущего сызмальства, окиньте взглядом гостей, и вам многое станет понятно. Для нас утрата государства в отличие от китайцев, евреев, грузин или армян равносильна утрате этнической идентичности. Вы никогда не задумывались, почему русские, придя на тот же Кавказ как победители, не вырядили местных джигитов в кафтаны, поддёвки, армяки и малахаи, а, наоборот, стали одеваться в черкески с газырями и папахи? В Средней Азии жившие там русские поэты с гордостью угощали меня не щами, а пловом. Доблесть они видели не в том, чтобы навязать свой образ жизни местным, а в том, чтобы освоить чужие обычаи. Потому-то мы такие большие, русский мир протянулся от Бреста до Курил, но по той же причине, чуть что, начинаем разваливаться. Нашей бочке нужна не затычка, а стальные государственные обручи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: