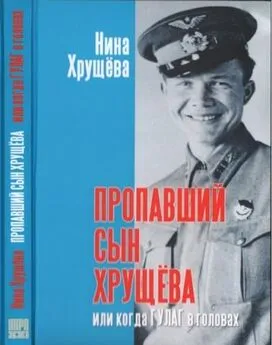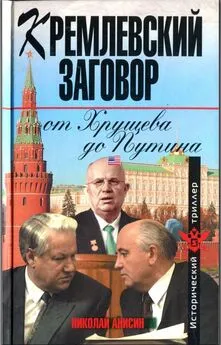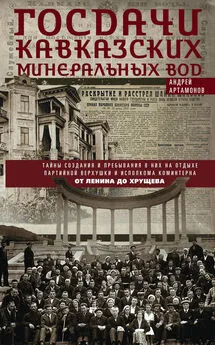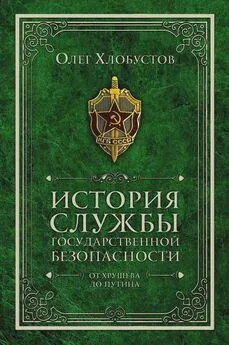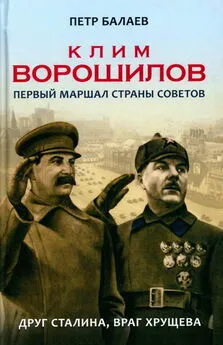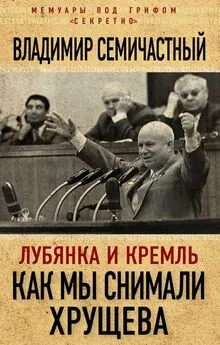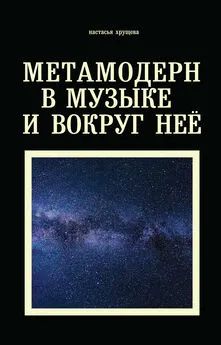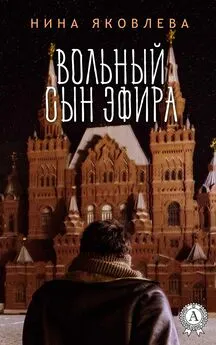Нина Хрущева - Пропавший сын Хрущёва или когда ГУЛАГ в головах
- Название:Пропавший сын Хрущёва или когда ГУЛАГ в головах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Рипол-Классик
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91022-418-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Хрущева - Пропавший сын Хрущёва или когда ГУЛАГ в головах краткое содержание
Пропавший сын Хрущёва или когда ГУЛАГ в головах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несмотря на все наши усилия, непутёвая жизнь молодого Хрущёва так и не получила путёвого завершения. Могила без погребенного в ней тела — душевная боль для любого родителя. Но если в обычных семьях люди могут плакать, делиться горем с друзьями, консультироваться с психологами, то в семье коммунистического лидера, где общественное всегда было выше личного, открыто горевать было не принято. Не было ни слез, ни времени — всего того, что лечит. Тётя Рада вспоминала: «Больно было не упоминать о Лёне, больно было видеть, как мать [Нина Петровна] молча переживает ещё одну военную потерю — смерть её любимого племянника Васи».
Когда мы вечером уезжали из Жиздры, я всё время думала о горьких словах деда, сказанных им пятьдесят лет назад: «Я хотел похоронить его». Хрущёв любил поэта Александра Твардовского,
особенно строчки из его стихотворения 1945 года «Я убит подо Ржевом»:
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.
И во всём этом мире
До конца его дней —
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.
[…]
Где — травинку к травинке —
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт.
[…]
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Меня смерть обделила [167].
Когда мне было семь лет, я часто слышала, как дед читает наизусть это стихотворение. Хотя в ту пору я ещё ничего не знала о судьбе Леонида, строчки «И во всём этом мире до конца его дней — ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей» всегда вызывали у меня грустное чувство.
Сегодня, когда я знаю так много, моё сердце разрывается.
Эпилог
ГУЛАГ в головах
День 14 октября 1964 года, когда ЦК КПСС объявил деду об отставке, был холодным и пасмурным. Ещё вчера бывший одним из самых влиятельных людей мира, семидесятилетний экс-премьер вышел из машины у ворот своего дома и увидел мою маму, поджидавшую его в сумерках. Она хотела первой поговорить с ним, раньше прочих. Он сделал несколько шагов навстречу, и их глаза встретились.
«Пройдемся», — предложил он, и они медленно пошли по белой, вымощенной мрамором садовой дорожке. Обойдя дом, он остановился и повернулся к ней. «Ну вот, — сказал он, — теперь я пенсионер». Он произнес это ровно и буднично, как чиновник, зачитывающий цифры роста сельскохозяйственного производства. Мама в слезах молча обняла его — совсем как тогда в Куйбышеве двадцать лет назад, когда ребенком она прижалась к деду, осознав, что кроме него у неё никого нет. Только в этот раз она сумела ощутить ещё и радость — как ни печальна была новость, которую он сообщил — оттого, что он жив. Мало кому из советских лидеров так повезло.
«Всё в порядке, — сказал он, пытаясь пошутить. — Зато теперь у меня будет время читать, чтобы сравняться с твоими умными друзьями». Она улыбнулась, а затем снова заплакала.
Ещё час они гуляли вокруг дома, и дед читал вслух стихи своего любимого поэта Некрасова. Читал монотонно, почти без выражения, одно за другим. Читал, пока не стемнело и вокруг не осталось ничего, кроме черноты и его бубнящего голоса:
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые, сонные галки,
Что сидят на вершине стога,
Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, сокрытую синим туманом,
Это мутное небо… Хоть плачь!
Хрущёв бы никогда не заплакал, во всяком случае, открыто. Но в душе он был сокрушен. Он чувствовал, что его детищу, оттепели, теперь придет конец, и что он должен был позаботиться о своём наследии, о стране, которую оставляет.
Придя к власти сразу после Сталина, мой дед попытался порвать с деспотизмом, но часто проигрывал, вновь и вновь увязая в этом болоте. Оценивая его политическое наследие, трудно отрешиться от мысли, что он и сам внес определённый вклад в русскую национальную «шизофрению» — постоянное балансирование между либеральными реформами и автократией. В течение тридцати лет Хрущёв был верным союзником диктатора и, как многие другие члены руководства компартии, преследовал «врагов народа» и навязывал стране коллективизацию и другие форсированные меры. Он лично принимал участие в позорных показательных судебных процессах 1930-х годов, в том числе против своего кумира, Николая Бухарина.
Правление самого Хрущёва началось с похожего процесса против Берии, абсурдно обвиненного в иностранном шпионаже, как будто бывшего всесильного руководителя НКВД больше не в чём было обвинить. В своей политике Хрущёв был непостоянен, дергал то вперёд, то назад. Так, в 1956 году он проявил себя одновременно как реформатор, представивший съезду партии свой секретный доклад о десталинизации, и как деспот, подавивший танками венгерское восстание, вызванное, кстати, во многом идеями его доклада [168]. В этом проявилась извечная слабость российской власти — оправдывать высокими целями жестокость средств для их достижения — и Хрущёв пал её жертвой.
Импульсивная натура моего деда, которую я так ценила в детстве, часто приводила его к поспешным, необдуманным решениям в политике. И, если в Америке его боялись за обещание «похоронить» Америку [169], то дома критиковали за бурные столкновения с интеллигенцией, например, с Андреем Сахаровым, отказавшимся принимать участие в советской ядерной программе, или Эрнстом Неизвестным и другими художниками, с которыми премьер схлестнулся на выставке в Манеже, взявшись доказывать преимущество соцреализма над авангардом [170].
При всех своих ошибках, однако, дед никогда не был заложником ГУЛАГа в мозгах, внутренней несвободы, вынуждающей наших лидеров покрывать исторические огрехи, вместо того чтобы говорить о них честно и открыто — и всё ради пресловутой великодержавности, отжившего образа национального величия, основанного в основном на размерах страны, простершейся через одиннадцать часовых поясов от Германии до Японии. Известны слова Хрущёва, сказанные им другу моей матери, писателю Михаилу Шатрову: «У меня руки по локоть в крови. Но я делал всё, что и другие делали. Я участвовал в репрессиях, потому что верил, что только полное уничтожение врагов обеспечит светлое будущее мирового коммунизма».
Он не пытался оправдаться. Вместо этого он, как объяснял мне историк Рой Медведев, «открыто признавал свои ошибки. Он переосмыслил свою политику, он извинился перед всеми, кого обидел. Так и Россия, признав свои ошибки прошлого, сможет найти выход из своих качаний маятника — от диктатуры к демократии и обратно».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: