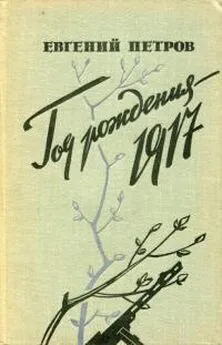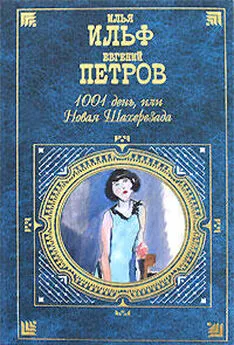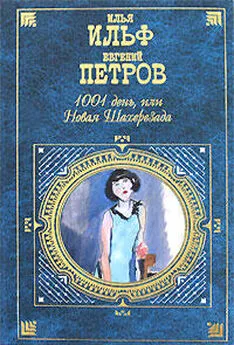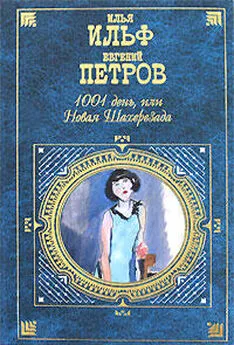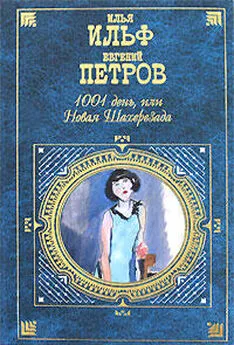Евгений Петров - Год рождения — 1917
- Название:Год рождения — 1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Петров - Год рождения — 1917 краткое содержание
В суровые годы военных испытаний автор повести Евгений Петров был фронтовым журналистом. О поколении, выстоявшем и победившем в войне, о судьбах многих ее героев и рассказывается в книге.
Год рождения — 1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подтвердились в те дни слова Суворова: «Ничто не может противиться силе оружия Российского!»
Набирая очередную сводку, старшина Сергеев заметил:
— Бьют врага в три шеи и пехота, и артиллерия, и танки, и авиация. Каждый знает свое место и дело. Выходит, товарищ капитан, что наши летние котлы тоже результат специализации?
— А то как же!
ПОЭТ «ДИВИЗИОНКИ»
Мы гордились тем, что наступали под водительством маршала Рокоссовского и генерала Батова. Стремительные броски совершали танки, конница, мотопехота. Что ни день, то радостное известие. Освобождены Барановичи, Люблин, крепость Брест!
Это наступление не было легкой прогулкой. Военная мудрость и воинское мастерство проявлялись в большом и малом. Уничтожались вражеские войска в котлах под Минском и Брестом. И в это же время шел неравный бой на безымянной высоте и у пограничного Буга. Немцы не скупились на снаряды и мины. Они бросались в одну контратаку за другой.
Письма, статьи, зарисовки об этих событиях поступали секретарю редакции Сереже Аракчееву. Он мог работать с большой отдачей в любых условиях и днем и ночью. Сережа схватывал на лету подсказанную ему мысль, охотно правил солдатские письма, помогал капитану Аипову, в блокнотах которого находился материал на все случаи жизни.
Секретарь редакции, услышав любопытный факт, уединялся. Через часок-другой приходил и, опустив глаза, стесняясь, предлагал посмотреть листочек. Случай из фронтовой жизни он переложил в поэтические строчки. Сереже в те дни сообщили, что рядовой Абасов с боями пришел на заставу, на которой его застала война. В очередной номер пошла его «Баллада о пограничнике».
На заставе, на Западном Буге,
Пограничником парень служил.
И однажды на праздном досуге
Здесь березку весной посадил.
Трижды лист пожелтевший роняли
Груши, вишни в осеннем саду.
Парня вьюги Москвы обнимали,
Ветры Волги свистали в дуду.
Не гадал пограничник, не ведал,
Что за месяц из топких болот
Фронтовая дорога победы
К той заставе его приведет.
Вышел он на обрыв, к переправе, —
Катит Буг золотую струю,
И в высокой березке кудрявой
Он узнал ту березку свою.
«Ну, — сказал пограничник, прощаясь, —
Нам до Рейна и Шпрее идти.
До свиданья, застава родная,
Заступлю на обратном пути».
Наш путь лежит через болота и трясины. Об этих днях Сережа Аракчеев сочинил стихотворение «Безымянное болото».
Мы в том болоте сутки спали стоя.
Нас допекали мухи и жара.
Оно было зеленое, густое,
Там от застоя дохла мошкара.
Там не хотели рваться даже мины.
И шли ко дну, пуская пузыри…
И если б не было за ним Берлина —
Мы б ни за что сюда не забрели.
Позднее об этих строчках вспомнил поэт Марк Соболь. Он писал 7 мая 1965 года в «Литературной России»:
«Как-то в один из редких своих наездов из саперной бригады, где я служил, в редакцию газеты я увидел невысокого старшего лейтенанта, тоже приехавшего из части. Он сказал мне, что все, написанное им до сих пор, — ерунда и чушь, но он верит, что еще сумеет сказать главное о войне. Именно главное.
В марте 1945 года меня перевели на работу в редакцию. И сразу же среди стихов я обнаружил восемь строк Сергея Аракчеева. Они меня невероятно взволновали: мне показалось (может быть, это так и есть), что искомое поэтом главное о войне уже сказано — не в поэме, не в эпосе, а в двух четверостишиях.
Стихотворение никогда не было напечатано. Но мои товарищи поэты уже добрых двадцать лет знают эти стихи наизусть — с моих слов.
Последний раз я видел Сергея Аракчеева в начале апреля того же 45 года. Ничего не знаю о его судьбе и боюсь, что последние дни войны для него — старшего лейтенанта, офицера строевой части — оказались роковыми. Не появлялось больше и стихотворений за его подписью: вряд ли человек, написавший «Безымянное болото», после этого замолчал бы как поэт на долгие годы.
Если ты жив, Сергей, откликнись!»
Во время боев в Белоруссии я попросил Сережу:
— Надо дать что-то в печать. Ведь то, что происходит сейчас, пожалуй, только в стихах высказать можно: Беловежская пуща, после грохота орудий — оглушительная тишина, пьянящий воздух, тучи комаров и диковинные зубры.
— Напишу, — тихо ответил Сережа.
Так в конце июля появилось в газете его стихотворение «Беловежское эхо».
Каменистым шляхом, спелыми хлебами
Громыхали танки с черными крестами.
В зареве пожара дали пламенели.
Шлялась смерть по хатам в зеленой шинели.
И в тоске гнетущей день и ночь скрипели
В Беловежской пуще вековые ели.
И три года эхо над болотом Пинским
Надрывалось в плаче скорбном, материнском.
Но июльской ранью в старый бор кудлатый
Докатились с ветром дальние раскаты.
Гул родной с Востока эхо подхватило,
Радостью, надеждой села разбудило.
Ожили дороги, пыльные, глухие, —
Скачут Беловежьем конюхи лихие,
И спешит пехота в потных гимнастерках,
Обгоняя роты, мчат «тридцатьчетверки».
…Выпрямился тополь, пулями иссечен,
Сбросивший оковы Пинск расправил плечи.
Над столетней пущей, над болотом мшистым
Затерялось эхо в соловьином свисте.
Сережа Аракчеев не раз радовал читателей стихами, в которых осмысливались наши фронтовые будни. Когда мы, проваливаясь по колено в пески, перешли границу, он подвел итог летним нашим боям.
Отцвел клеверами и травами
Душисто медовый июль,
Отсвистел над Полесской дубравою
Гулким свистом снарядов и пуль.
И не днями, лучами залитыми,
И не песней, что степь нам звенит, —
Белорусскими славными битвами
Был для нас ты, июль, знаменит.
Ты своими раскатами зычными
Сбил оковы с плененной земли.
И поставил столбы пограничные —
Их с собой мы три года везли.
Горяч бой, но после него выдаются минуты, когда солдату особенно хочется шутки, острого слова. Зная об этом, Сергей Аракчеев взялся вести в газете поэтический раздел «Будни Кости Русакова, по профессии стрелка». Русакову присвоили звание сержанта, и свалились на него тысячи забот. Повел Сергей своего Русакова в атаки, в схватки с танками, в разведку, в вылазки за «языками». Не было, пожалуй, в нашей дивизии бойца, который не знал и не любил бы этого отважного и веселого сержанта. Костя Русаков представлялся иногда реальным человеком даже для нас, его создателей.
Казалось, что Сергей мыслит стихами. Он не мог обойтись без рифмы даже тогда, когда газета ставила перед бойцами задачи, далекие от всякой поэзии. Вот и появлялись на страницах «дивизионки» такие, к примеру, советы-наставления:
«Брать крепость не одну придется нам —
Готовься, воин, к уличным боям!»
Интервал:
Закладка: