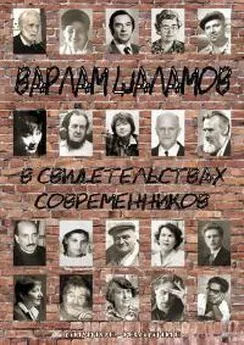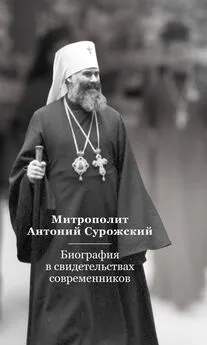Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Название:Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников краткое содержание
Варлам Шаламов в свидетельствах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Последние двадцать лет его жизни мы почти не виделись. Доходили слухи о его утяжелявшейся болезни, невыносимом характере, вспышках бешенства, растущей нетерпимости. Он стал резко судить и Б. Л. Не только к роману «Доктор Живаго», к которому он всегда относился скрыто неприязненно, предъявлял он несправедливый счет, но и к позиции самого Б. Л. в нобелевские дни – что не стал тот монолитом неуязвимости, не сумел навязать событиям свою волю – пресловутые «покаянные» письма. Он не написал нам в лагерь, не интересовался нашей судьбой.
Он умер в доме для престарелых, где, как говорят очевидцы, припадки безумия чередовались с периодами ясности ума и суждений. Он, за которым двадцать лет «смерть ходила по пятам», сроднившийся с ней в Колымском аду, как принял он ее, когда она стала реальностью в грязной палате для душевнобольных стариков? Сын священника, он не терпел разговоров о Боге, подчеркивал свое неверие. Поэтому так странны показались мне его похороны – и панихида, и молитва на лбу, и крест. Разве что погода была шаламовская – мороз, кайлом выбитая могила, нахохлившиеся вороны на разрушенной часовне Кунцевского кладбища. Но мог ли он, познавший до самого дна, чего стоит наш материальный мир, не верить в возможность выхода из него? Так веривший в слово – не верить в чудо? Чем жил он в последние часы просветления? Вот его стихи о соснах – о строевом лесе, который валил он в тайге, пресловутые таежные кубометры, бывшие соснами:
Чем живут в такой вот час смертельный
Эти сосны испокон веков? –
Лишь мечтой стать мачтой корабельной,
Чтобы вновь коснуться облаков.
Париж, 1990
Опубликовано в книге Ирины Емельяновой «Легенды Потаповского переулка : Б. Пастернак. А. Эфрон. В. Шаламов : Воспоминания и письма». – М. : Эллис Лак, 1997. Сетевая версия на сайте Сахаровского центра http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=934 и на сайте Данте XX века
http://www.booksite.ru/fulltext/eme/lya/nova/index.htm
_________
«Ирина Емельянова: Шаламов – это, конечно, фигура грандиозная. Я до сих пор читаю его рассказы, а тогда они были только написаны. Он читал их по тетрадочкам – тетрадки в линеечку, чернила, аккуратный почерк. У него в распоряжении не было даже пишущей машинки.
Любовь Борусяк: А у вас в доме не было машинки?
И.Е.: Он привозил. Он же не мог жить в Москве – у него был «минус». Он привозил, и потом перепечатывали, конечно. Но первое чтение – либо по памяти, либо по тетрадочкам. Помню очень характерные жесты Шаламова, угловатые такие движения. У него начиналась болезнь Меньера – потеря равновесия. Варлам Шаламов выглядел живым памятником сопротивления сталинскому режиму. Конечно, он произвел на меня огромное впечатление. Он даже мне помогал. Когда я поступала в Литературный институт, я, как все, немножко кропала стихи. В институт пришла очень поздно, поэтому комиссия не выказала энтузиазма: вот, мол, еще одна девочка с бантом и со стихами.
Л.Б.: В смысле очередная поэтесса?
И.Е.: Понимаете, было 500 человек на место, и все поэты. Там были славные люди в приемной комиссии. Встретив такой прием, я уже было собиралась уйти, но меня спросили: «А какие у Вас рекомендации?» Для поступления в Литературный институт нужны были две рекомендации – от двух членов Союза писателей. Я сказала, что одна рекомендация у меня от Пастернака, а другая от Ольги Сергеевны Неклюдовой. Это – мамина подруга, знавшая меня с детства. Члены приемной комиссии меня почти на пороге задержали: «Не уходите, не уходите».
Л.Б.: Еще бы! С такими-то рекомендациями.
И.Е.: Кто же там был? – Двое молодых людей, которые были просто погребены подо всем этим, потому что это же был творческий конкурс поэтов. Вы понимаете, для того чтобы писать прозу, нужно было иметь хоть какой-то опыт, хоть какое-то образование, но все писали стихи и надеялись туда попасть. Один из членов приемной комиссии мне говорит: «Ну, напишите что-нибудь другое, не надо этих бесконечных стихов. Даже ваши переводы какие-то бесцветные».
Л.Б.: А он посмотрел при Вас?
И.Е.: Только глянул, а там Шелли. «Напишите статью какую-нибудь критическую. Вот хоть о Хемингуэе что ли, – его сейчас все читают. В понедельник принесите. А заодно принесите рукопись романа почитать, если у вас есть, конечно».
Л.Б.: Понятно. Взаимовыгодный обмен. А не страшно было приносить роман совсем неизвестным людям?
И.Е.: У нас у всех, и у мамы тоже, такое легкомыслие всегда было. Рукопись романа я им не принесла, потому что ее не было у нас. Но в это время Борис Леонидович написал «Люди и положения» – автобиографический очерк. Тогда готовилось издание 1957 года, и к нему по инициативе мамы и редактора, Банникова, он написал этот очерк, корректирующий остроту «Охранной грамоты», но, безусловно, интересный. Дома у нас уже были экземпляры этого очерка. Я принесла этот очерк им и, кроме них, принесла его ректору.
Когда я вернулась домой в Переделкино, я рассказала маме, что мне нужно написать очерк о Хемингуэе. А у нас тогда был Варлам Тихонович. Он говорит: «А я вам сейчас напишу». С тех пор прошло n+1 лет, а я все хочу его опубликовать, потому что он там выразил свое настоящее понимание новеллы. Это его вообще безумно занимало. Писал он, разумеется, приспосабливая текст к моему уровню. Но мысли эти он потом неоднократно повторял в своих более глубоких работах.
Л.Б.: Но он о Хемингуэе писал, как было велено?
И.Е.: Да. Это называлось «Мастерство Хемингуэя как новеллиста». И в этот текст он вложил свое понимание эволюции рассказа. Очерк приняли с восторгом, когда я пришла. Говорили, что ректор им зачитался.
Л.Б.: То есть в институт Шаламов поступил.
И.Е.: Да, в институт он поступил. В остальном все было тяжелее.
Л.Б.: А он у вас часто бывал?
И.Е.: Часто. Приезжал в основном на уикэнды.
Л.Б.: Все-таки его не очень отслеживали?
И.Е.: Нет, его совершенно не отслеживали. Ему прописаться в Москве было нельзя, и он был прописан в Тверской области – таких людей тогда называли «туркменами». Он описал это в «Колымских рассказах», поэтому не хочу повторяться. Кроме того, был фильм, сериал о Шаламове.
Язык Шаламова совершенно непереводим на визуальный ряд, непереводим ритм его прозы. Зато там точно рассказано, как он попал в эти «туркмены», которым можно было прописываться только за 100 километров от крупных городов.
Л.Б.: В Калинине и Калининской области тогда и позже много было таких людей.
И.Е.: Ирэна Савельевна Вербловская, ахматовед и моя подруга, с которой я была в лагере, она тоже должна была жить в Калинине. Калинин находился между Петербургом и Москвой, и люди, отбывшие срок, часто жили в Александрове. Это как раз 101-й километр и есть. Кстати, там находится музей Цветаевой. Почему я об этом знаю? Потому что музей, где мы с вами сейчас находимся, – центральный, а есть еще два филиала – в Александрове и в Болшеве. В Александрове очень симпатичная директор, которая сказала, что просто дом Анастасии Ивановны – это не так интересно. Лучше, если там будет музей «101-й километр». И кто только не вынужден был там жить! Такой же была и Тверь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: