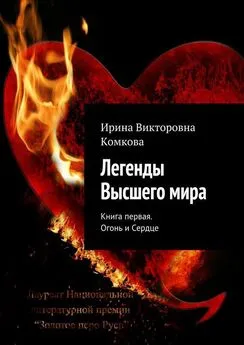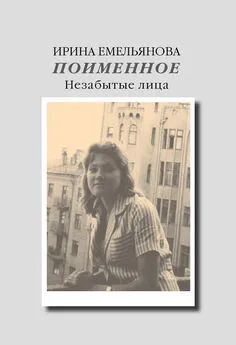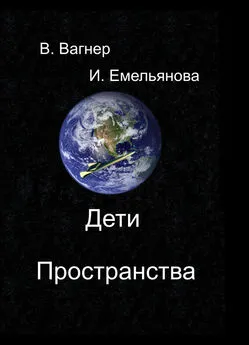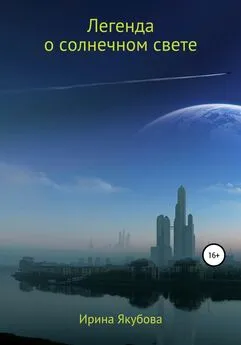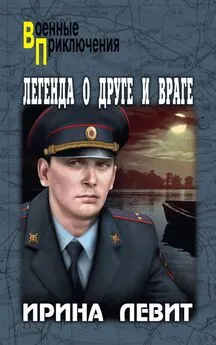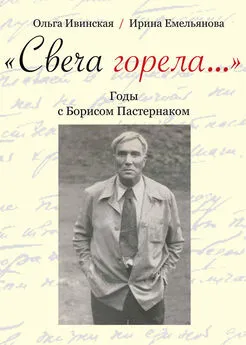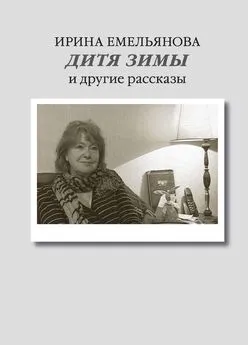Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка
- Название:Легенды Потаповского переулка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7195-0067-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка краткое содержание
Легенды Потаповского переулка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прошло время обеда. Охрана разожгла костер, нас тоже ласкает его тепло. Искры падают на лоснящуюся шерсть овчарок. Проходит еще час. По красным раздраженным липам надзирателей понимаем, что ничего не нашли. В открытые ворота видны приземистые силуэты снующих около бараков: выбрасывают матрацы, подушки. Работы-то потом будет! Кого-то осенила мысль воспользоваться минным щупом. Как черти с кочергами бродят они по зоне, отыскивая «слово Божье». Черноглазая монашка Надя, с которой мы вместе ехали из Тайшета, недавняя ташкентская комсомолочка, обращается ко мне:
— Видела? Они же все в перчатках! Знаешь почему? У них вместо рук копыта! И у Хрущева тоже! Он ведь перчаток никогда не снимает.
Становится веселее. Действительно, раз минным щупом разыскивают, гонят, травят — что? Да Библию, «слово Божье»! Раз бегут, как черти от ладана — и впрямь похожи на чертей! — так, значит, не может не быть, что гонят они. Они ведь — материалисты. Не Господь ли смотрит с этого неба на действо пещное и на гонимых за имя свое? И вдруг — как молния пробежала! Нашли, нашли щупом железную банку, зарытую около бани, несут, открывают — вытряхивают оттуда книги, журналы, брошюры… «Башня Стражи». Значит, попались свидетельницы Иеговы.
Злость, отчаяние, тоска, досада охватывают меня. Подхожу к беззубой Паране, спокойно сидящей в кружке своих и дожевывающей какую-то горбушку. Ведь теперь ее начнут таскать! Ведь четвертый срок могут намотать!
— Что же это? — говорю я ей злобно. — Бог ваш так плохо о вас заботится? Или мало тебе трех сроков?
Параня спокойно отряхивает с колен белые крошки, как-то благостно и даже самодовольно вздыхает.
— С начала сотворения мира так было. Сыны века хитрее сыновей света.
Дурные чувства оставляют меня. Приходит какое-то новое, неожиданное, странно гармонирующее с простодушным небом. Я прислушиваюсь к нему, пробую и так и сяк, как бы разминая затёкшие от долгой неподвижности ноги, — нет, вроде все в порядке, всё действует. Что же это, как теплая вода, смывает с меня раздражение и досаду, ненависть и злобную тоску? Почему вдруг стало легко и даже весело? Во всю ширь красноперого лесного горизонта обступает и омывает меня недоумение. Почему, почему все это? Зачем?
Мы живы, пока удивляемся. Значит, жива. И, торжествуя победу, я развязываю тесемки рюкзака перед усталой надзирательницей. Подошла и моя очередь.
Тайшет — Москва. 1962–1982
Имя Инессы Малинкович, Инны, встречается в тексте писем и воспоминаний довольно часто, и поэтому мне захотелось посвятить ее памяти эти несколько страниц. Она была из нашего круга — восторженная поклонница поэзии Б. Л; самоотверженный друг Ариадны Эфрон, моя наставница и подруга. Но не только. Она была пытливым исследователем, к сожалению, не опубликовавшим при жизни ни одной строчки. Лишь после ее смерти, в 1994 году в издательстве «Восточная литература» вышла крохотная зеленая книжица «Судьба старинной легенды», получившая высокие оценки специалистов. Сейчас эта книжка стала уже библиографической редкостью (тираж — 450 экземпляров!). Инна оставила после себя груды черновиков, неоконченных работ, писем, полных ума, юмора, живости, обаяния.
О Дудочнике с Фурманного переулка.Воспоминания об Инне Малинкович
В самом начале 50-х годов она пришла преподавать английский язык в среднюю женскую школу № 612 в старом московском переулке. В ту самую, которую сама она окончила с золотой медалью в 1947 году. И вот — после университета вернулась туда же.
Наверное, в другие времена ее ждала бы аспирантура и университетская карьера. Но в жуткие 50-е, когда, как говорил тот же Леонид Ефимович [8] Л. Е. Пинский, ее учитель, МЭТР, преподававший историю западноевропейской литературы в МГУ им. М. В. Ломоносова.
, «маразм крепчал», — школа была единственным прибежищем для интеллигентной еврейской девушки. Однако судьба не ошиблась, облюбовав ей именно это поприще. Дети оказались ее призванием, страстью, жизнью. В них она осуществилась, начиная с нас, с косичками по циркуляру, в черных форменных фартучках, смирно сидевших под портретом Сталина, и кончая уже последними, израильскими, так же любившими ее, как и мы, и проводившими в декабре 1992 года на иерусалимское кладбище.
У нее был дар располагать детей. И, как всякий дар, он необъясним. Наверное, она сама была во многом ребенком (как страдала она всю жизнь от своей «невзрослости» — видно по ее письмам), и легче всего ей было с детьми.
У этих детей были непростые судьбы. Об арестованных родителях не говорилось. Как выяснилось потом, спустя много лет — не было семьи без трагедии, но мы были пионерками звена имени Зои и Шуры и с упоением читали на утренниках «Стихи о советском паспорте». У меня были арестованы бабушка, мама, дед был выгнан с работы как сын священника, в доме ненавидели Сталина, я росла под влиянием Б. Л. Пастернака, близкого друга нашей семьи, — и однако мне страшно хотелось быть как все, я страдала от своего изгойства, скрывала, изворачивалась.
Чтобы расковать этих детей, разговорить их, Инна сразу организовала кружок. Это был в буквальном смысле «кружок» — сидели вокруг нее и смотрели ей в рот — английского языка. Там мы читали и переводили Байрона, Китса, Шелли, даже Шекспира (а кто умел — и стихами! Я — стихами!). И вот однажды на занятия этого кружка я принесла миниатюрное оксфордское издание Шелли с дарственной надписью Б. Л. Пастернака мне.
С этой минуты, с этого движения — когда Инна открыла книжечку и увидела надпись — и началась наша дружба, прошедшая через всю жизнь.
— Ого, — сказала Инна, и я почувствовала, как она волнуется. — Какие у вас друзья!
— А что? — ответила я почти с вызовом. — Хорошие!
— Да, очень хорошие!
Это был уже диалог посвященных. В то время моя мама за эту дружбу уже который год была в лагере, Борис Леонидович был предметом оголтелой травли, и я, признаваясь своей учительнице в подобном знакомстве, открывала тайный кусок своей личной жизни, за которую боялась. Но она одобрила меня, и с этой минуты кончилось мое детское одиночество.
Я часто провожала ее после кружка к ней домой в Фурманный переулок, где она жила. Мы шли вдоль Чистых прудов, мимо катка, над которым заливалась Шульженко, горели заснеженные фонари, катилась веселая, для меня тогда недосягаемая жизнь, и она наставительно допрашивала: «А какие стихи вы любите? Гумилева? Светлова? Ну, это все побрякушки!»
А потом, в ее комнате, в которую мы проходили мимо спящих за ширмами родичей, комнате, которая стала моим вторым домом и где я помню каждый предмет, она читала мне другие, «настоящие» — Тютчева, Баратынского, Батюшкова.
С ее голоса я узнала эту поэзию. Ее глазами увидела живопись — сначала в скромных черно-белых альбомчиках, потом в музеях. С ее голоса узнала музыку. Телефона у нас в те времена не было, и обычно я звонила ей из автомата у Покровских ворот, можно ли зайти. «Сегодня обязательно, надо прослушать Глюка, мне на два дня одолжили пластинку». С техникой она всегда была не в ладах, поэтому эти прослушивания часто превращались в отчаянную борьбу с проигрывателем, и, если она в этой борьбе побеждала, из хриплого «Аккорда» лились божественные звуки. «Как в каждой идеально классической опере, самая лучшая часть — средняя, а в ней — центральная мелодия, здесь это — песня флейты». Слушали песню флейты. За большим окном-фонарем темнело, начинал медленно падать тяжелый серый снег. Кудрявый красавец — молодой Блок с бантом (карандашная копия) витал между окном и книжным шкафом, благословляя белокрылый пожар за окном…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: