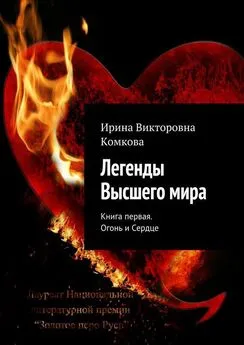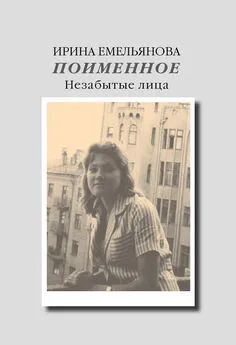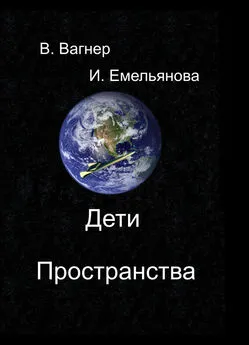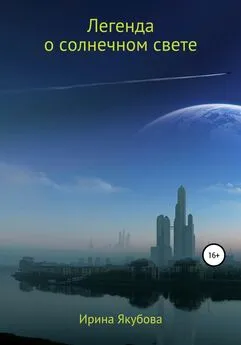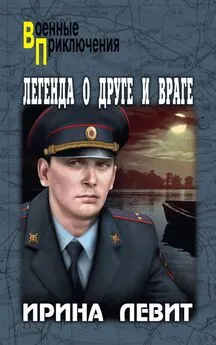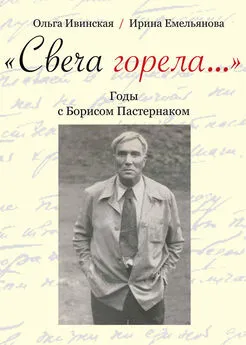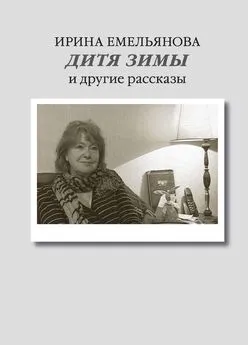Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка
- Название:Легенды Потаповского переулка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7195-0067-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Емельянова - Легенды Потаповского переулка краткое содержание
Легенды Потаповского переулка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вечный, великий, загадочный город лежал под нами, внизу, шумел ночной туристской жизнью. Вот русло высохшего Кедрона, над ним — Масличная гора, вот, под самыми нашими ногами — монастырь Креста, оливковая роща, по легенде, посаженная Лотом. А дальше, за сверкающим огнями Кнессетом, видным отовсюду, — мемориал Яд ва Шем с его никогда не гаснущими шестью миллионами свечек…
— Да, может быть, это и так. Но стоит ли платить за эти гениальные искры такими кострами? Давайте лучше жить без Малера и Кафки. Хватит и той искры, что высекается при нашем с вами соприкосновении.
Из этой нашей «искры» родилось ее страстное желание работать, писать, подытожить свой опыт и все те знания, что получила она в России. Историко-компаративный метод, воспринятый ею от Пинского, приложила она к текстам, по разным причинам особенно близким ей, — к поэзии Цветаевой. В 1992 году готовился юбилей поэта, и Инна хотела завершить свою работу к этой дате и поехать в Москву. А. Саакянц, наш старый и верный друг, включила ее в список выступавших, но этому выступлению не суждено было состояться — у нее уже не было сил. А сама ее работа, ввиду большого объема, странствовала из журнала в журнал, пока наконец не появилась (лишь одна, последняя глава из нее) в журнале «Литературное обозрение» (1992, № 11–12). Через неделю после ее смерти!
Она обратилась к «Крысолову» Цветаевой. Не только потому, что тема, как я уже говорила, таинственно притягивала ее, но и потому, что это был уже хорошо знакомый ей материал — когда в 1963 году готовилось издание Марины Цветаевой в «Библиотеке поэта», Ариадна Сергеевна, перегруженная работой и, как обычно, опаздывавшая к сроку, попросила Инну помочь в работе над комментариями, и Инна с фанатичной добросовестностью просиживала в библиотеках в поисках толкований. И вот теперь, потянув за ниточку, она начала разматывать клубок дальше — как трансформировалась легенда на протяжении веков, что манило в ней столь разных поэтов?
Она искала емкую тему, которая впитала бы как можно больше информации, которая позволила бы ей мобилизовать все свои знания. Как скрупулезно изучала она источники, сколько вариантов отбросила!
«Ведь ты вытащила меня из смертной ямы, — писала она, — я должна докончить. Это мой долг — перед Алей, перед Мариной, перед Леонидом Ефимовичем, перед Россией». Она ходила в Британскую библиотеку в Иерусалиме, в Лондоне — в библиотеку Национального музея, выписывала из Германии варианты старинных легенд, в подлиннике читала Гёте, Гейне, Зимрока, Юлиуса Вольфа, сама переводила стихи для главы о Браунинге, не доверяя Маршаку, перечитала все, появлявшееся о Цветаевой по-русски. Но уже не простой ученицей, пережевывающей мысли своего любимого учителя, выступает она в этой работе. В ней много личного, выстраданного, и по тому, как расставлены акценты, — становится ясной и ее собственная позиция, которая шире литературных оценок.
Первая глава — о «Крысолове» Гёте. «Союзники у меня — только в прошлом. Недавно обрела нового — Гёте. Как он презирал этих дураков — романтиков-патриотов! Как говорил, кажется, Герцен, предпочитаю ошибаться вместе с Гёте, чем быть правой со всей этой оравой фундаменталистов». «По-моему, Гёте мне удался лучше всего. Есть даже маленькое открытие: кажется мне, что песенка Папагено из моцартовской «Волшебной флейты» pendant к гётевской песенке Крысолова. Сравнила тексты — поразительное совпадение формы и содержания».
После классического Крысолова Гёте, романтического — Зимрока и «детского» — Браунинга она обратилась к «голодным крысам» Гейне. Гейне — ее старая любовь еще с юности. «Медленно пишу о Гейне. Перечла его и чувствую к нему, как писал Блок, «странную близость». Ну, для меня не такую уж странную, ибо — еврей… А почему пришелся он так ко двору в России? Всех захватывала его ирония!
Очень уж он актуальный. Кажется, до сих пор я не знаю об общественном развитии больше, чем он!»
В Гейне ее привлекала не только ирония (а уж чувства юмора, умения даже зло вышучивать самые «святые» вещи у моей учительницы хватало!). Его трагическая жизнь, болезнь, вынужденная отрезанность от внешнего мира — и при этом умение сохранить себя, отстоять свою личность, свое право быть самим собой — над этой загадкой Гейне билась она последние годы, проецируя на его жизни свой горький опыт. Многое, что писала она о Гейне, кажется написанным о самой себе. «Я читаю и зачитываюсь Гейне. Вот был умница! И эмигрант! И 8 лет в «матрацной могиле»! В эти годы он особенно поумнел: перестал, как он пишет, пасти свиней у гегельянцев и — блудный сын — выучился смирению. Или пытался выучиться. Никогда не врал перед собой. В судьбе моего сюжета — это случай особый. Крысы без крысолова. Тынянов в своем переводе назвал крыс «кагалом». У Гейне этого и в помине нет. Евреи для него — синоним торгашей и банкиров, никак не революционеров. А в последние годы и вообще — читал Библию и больше всего любил Моисея!»
О месте Гейне в ее жизни она могла бы сказать словами Цветаевой: «Генриха Гейне — нежно люблю, насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть». В своей «матрацной могиле», в квартирке, зажатой между «фалафелем» и гаражом, она продолжала работать почти до самого конца. Иногда бывали перерывы, когда дул из пустыни горячий «хамсин», поднималось давление, она на время теряла зрение. Но — «Ванька-встанька», «Феникс», как называла ее Ариадна, — перемогала недуг и снова возвращалась к своим «милым спутникам». Она много думала над заглавием последней главы о «Крысолове» Цветаевой — хотела перефразировать Мандельштама: «…и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет…» Я предложила ей скомпилировать: «Своя чужая песнь».
«Свою главу о МЦ я писала запоем, как она сама своего «Крысолова». Не знаю, как читателям, а мне в процессе статьи уяснилось гениальное письмо Пастернака о поэме. Даже стыдно писать после него. Книга («Переписка Бориса Пастернака», я послала ей из Парижа. — И. Е.) у меня, и такая прекрасная, поддерживает в часы ночных бдений. Не говорю уж о письме Марине о Крысолове. Если бы я могла понять его во всей его мудрости, вышла бы хорошая глава о Цветаевой. Только теперь, когда все мысли о цветаевском Крысолове, обнаружила, что в некоторых пунктах — о лейтмотивах, о слове, как организующем начале — додумалась до похожих идей».
То, что Инна до конца дней оставалась открытой, живой, доказывает ее новое отношение к Цветаевой. Выбор темы книги был сделан по любви, но второго романа с Цветаевой у нее не получилось. Если погружение в Гёте и Гейне она пережила как настоящие влюбленности, с Цветаевой она боролась, не принимала, оспаривала. В Гёте и Гейне она нашла союзников — в равнодушии первого к «мелким мировым дрязгам», в стоицизме второго, в его искусстве «не врать себе». Но между ее полудетским обожанием Марины и возвращением к ее поэзии в последние годы пролегла целая тяжелейшая жизнь, и вынесла она из этой борьбы терпимость и жизнелюбие — качества, прямо скажем, не из репертуара Цветаевой. «МЦ всегда отличала жизнебоязнь, — писала она в одном из «итоговых» писем — работа шла к концу, — об этом где-то в письмах Эфрона есть. А у Пастернака всегда была жизнеотвага. Помнишь? «И это тянет нас друг к другу». Отсюда очень многое — и повышенное чувство благодарности жизни и людям, и отсутствие чувства правоты, которое особенно дорого в наше время, когда все носятся со своей правотой и обвиняют друг друга. Я недавно думала, как вколачивает МЦ свои «формулы», а в результате — лучшие стихи это те, где, в конце концов, оказывается, как в «Тоске по родине», что «формула» — не права…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: