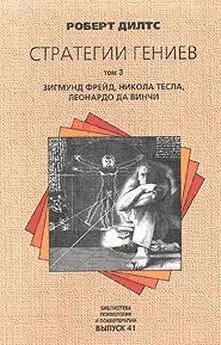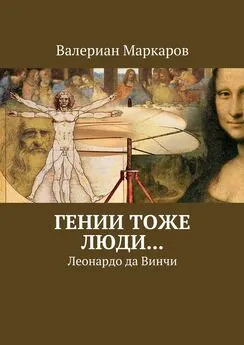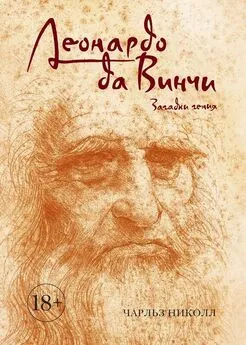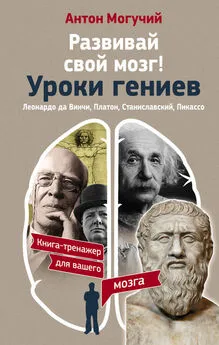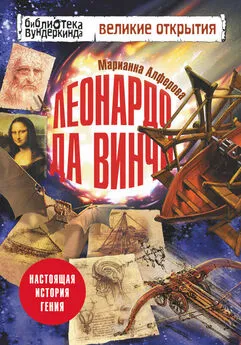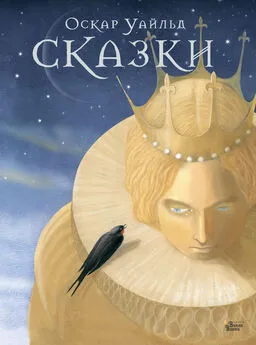Ольга Хорошилова - Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой
- Название:Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн, Иванов и Фербер
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00146-450-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Хорошилова - Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой краткое содержание
Безмолвным деталям костюма, запечатленным на старых фотографиях и портретах, Ольга Хорошилова помогает обрести голос.
Книга написана в том числе на основе неопубликованных архивных материалов.
Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «оттепельной» Москве долго помнили ее «протесты против системы», три ее «Лебединых», сыгранных одно за другим осенью 1956-го, сыгранных назло, в лицо КГБ, не отпускавшему за границу, не разрешившему гастролировать в Лондоне. Это была ее месть и ее сверхтриумф. Она танцевала неистово, фуриозно, зло, великолепно. Публика бесновалась: аплодисменты захлопывали оркестр, захлопывали белых от страха капельдинеров, тщетно призывавших к тишине, глушили сотрудников в штатском, рявкавших «молчать!». Зрители не унимались, не отпускали — бешеные овации были их личной немой демонстрацией в поддержку невыездной балерины. После этого бунта рук администрация Большого, как говорят, вывесила объявление: «Запрещается прерывать действие аплодисментами».
Плисецкая была свободолюбивой в творчестве. Свободолюбие развило в ней артистичность и особое тактильное ощущение персонажей — буквально кожей, подушечками пальцев, кончиками пуантов. Она их чувствовала и понимала, как сыграть. В шестом-седьмом классах балетной школы станцевала Пахиту, придуманную Мариусом Петипа когда-то очень давно, в серебристо-имперское уютное время. Его Пахита была куклой из табакерки, ее же — острой, живой, объемной, невероятно прыгучей, свободолюбивой. Другой ранний удачный опыт — нимфа в хореографическом этюде «Экспромт» Леонида Якобсона. Это был действительно практически экспромт.
Во второй половине сороковых Плисецкая, недавно принятая в труппу Большого, незаметно, легонько меняла рисунок классических партий. Придумывала новые вращения, усложняла вариации. В третьем акте «Лебединого озера», ее первом настоящем триумфе 1947 года, вместо положенных двух станцевала четыре пируэта. И с каждым новым выступлением Одетта-Одиллия менялась. Балерина неспешно, год за годом раскрывала характер, усложняла оттенки, совершенствовала выразительные средства танцевального языка.
Говорили, что она всерьез изучала строение и кинематику лебединого крыла, чтобы лучше понять, изобразить Одетту. Научила руки сильно выгибаться во взмахе, мелко трепетать, лепетать на ветру. И они необычайно плавно, волнообразно переливались в финале, когда уходила Одетта. Критики поймали идею: «Руки переходят в движение волн, по которым уплывает лебедь». Это был один из первых авторских трюков Майи. Другой — превращение лирического «Лебединого озера» в настоящую любовную драму.
Свободолюбие и невероятная техничность помогли ей реформировать классические партии. Ее большие экспрессивные жете и баллоны в «Дон-Кихоте» настолько впечатлили исполнительниц, что им начали подражать, и позже эти прыжки вошли в арсенал советских танцовщиц.
Балерина не любила общих мест и расхожего мнения. В 1950-е, к примеру, говорили: «Плисецкая — холодная». И прочили ей хрустальную карьеру снежной королевы адажио. А она, величественно и нежно станцевав умирающего лебедя, истово, против всех правил, жарила аллегро. Ее Мирта в «Жизели» — фурия. Лауренсия в одноименном балете — пламенная революционерка. Ее шкодливая Царь-девица потешалась над простофилей-царьком и заигрывала с Иваном в «Коньке-Горбунке».
Китри в «Дон-Кихоте» была кремнем. «Вы устроили на сцене пожар» — так сказал ей Руди Нуреев много позже, вспоминая это ее острое, зажигательное выступление в марте 1950-го. Ему было тогда всего одиннадцать. Он тихонько следил за Китри-Плисецкой из зрительного зала, напитывался ею, запоминал трюки и робко, по-детски плакал, то ли от красоты, то ли от ревности к сцене…
Когда ее спрашивали, что больше нравится танцевать, Плисецкая бросала: «Кармен». Она вся в этом ответе. Кармен — острая, резкая, своевольная, упрямая, жестокая, дерзкая, огненная, сексуальная. Неслучайно она так рассердила Фурцеву.
Поставленная кубинским хореографом Альберто Алонсо в 1967 году, году «Кармен» была первым авангардным опытом примы. После премьеры товарищ министр, застегнутая на все пуговицы, запертая за решетку своего полосатого стального костюма, обвинила постановку в откровенном эротизме, порочащем советский балет. Лучшего комплимента игре и танцу Плисецкой не придумать. Спектакль пришлось отредактировать, но даже в таком оскопленном виде он продолжал возмущать партийцев.
Времена, однако, менялись, партийцы тоже. После того как товарищ Косыгин посмотрел «Кармен-сюиту» и выразился в том смысле, что «постановка вполне неплохая», критики поубавилось. В 1970-е году Плисецкая и Щедрин смогли показать на сцене Большого ее оригинальную полнокровную версию.
Успех вдохновил на другие эксперименты, на «копродукцию». Этот термин вошел в культурный словарь Советской России благодаря Плисецкой. «Копродукция» — блистательные совместные проекты Майи Михайловны с революционерами авторского балета. Она вдохновила Ролана Пети на его бессмертную «Гибель розы» и танцевала эту миниатюру восхитительно. Она горела в «Болеро» и телом рассказывала историю любви Айседоры Дункан, сочиненную Бежаром. Она танцевала его эротичную «Леду» с царственным Хорхе Донном и перевоплощалась в черно-белого паука-травести в «Курозуке».
Свободолюбие и жажда нового подготовили метаморфозу: Плисецкая-балерина стала Плисецкой-хореографом, автором балетов «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».
Ее «копродукция» — сотворчество не только с балетмейстерами, но и с миром моды. Плисецкая отважилась пригласить французского кутюрье Пьера Кардена к работе над постановками. Она дружила с Ивом Сен-Лораном и выступала в его костюмах. Она стала музой прославленных зарубежных фотографов Ричарда Аведона и Сесила Битона. Ею восхищалась даже скупая на комплименты Диана Вриланд, редактор американского журнала Vogue. Майя Плисецкая стала подлинной иконой стиля в российском балете второй половины ХХ века.
Чувство стиля
У Плисецкой оно было врожденным, но проявилось не сразу, не в детстве. Ее детство было, как у многих, коммунально-уплотненным, бедным, беглым. Все пытались убежать от нищеты, кое-как извернуться. Хорошую одежду не покупали — ее доставали с большим трудом, через знакомых, и было ее мало. Носили что придется. Плисецкая запомнила, как горевала мать, узнав, что она пустила новенькие белые сандалики вниз по реке, — она с таким трудом их достала. И еще запомнила ее слова: «Тяжелые, тяжелые времена». Все тогда так говорили, качали головами, пытались выживать под мажорные, душераздирающие звуки светлого будущего, лившиеся из радиоприемников. Родители в него почти не верили. Не видели пламенеющего горизонта. За поворотом истории ждали гнетущие бедность и страх.
Впрочем, страхи маленькой Майи были иными — вещественными. Одежду в семье берегли. Когда толстые пальто и шубы отправляли на зимнюю спячку в кладовку, их сдобно обсыпали нафталином, говорили: «Чтобы не съела моль». Осенью няня Варя и мама вытаскивали вещи из коробов и причитали: «Опять моль поела. Ничто ее не берет. Эта моль ест все!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: