Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!»
- Название:«Иду на красный свет!»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!» краткое содержание
Большинство произведений на русском языке публикуется впервые. В книге использованы рисунки автора.
Предназначена широкому кругу читателей.
«Иду на красный свет!» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я вспоминаю дедушку и бабушку Адамековых, родителей нашей матери. У них в Кршештёвице был маленький домик под соломенной крышей, напротив деревенской школы. Рядом находился небольшой пруд, и когда мы гостили у бабушки, то гоняли к нему гусей и бродили по колено в грязной воде, в которой плавал гусиный и утиный пух.
Семейные выезды в Кршештёвице были для нас целым событием. Мы всегда с нетерпением ждали встречи с бабушкой, которая нас очень любила. Кроме того, поездка в родную деревню матери всегда сопровождалась множеством удивительных впечатлений. Помню, брата, меня и сестру, совсем еще маленьких, матушка усаживала в коляску, и отец вез нас по дороге вверх, к Живцу, где был чудесный лес и гостиница «У Мерглов» — там продавали пиво и лимонад. Этот лес казался нам бескрайним. От матушки мы слышали, что добраться до опушки можно только через страшную чащобу, а оттуда уже начиналась извилистая и каменистая полевая дорога на Клоуки. Кршештёвице встречали нас звоном, доносившимся с белой колоколенки костела святого Яна, и большой липовой аллеей, которую было видно еще издали.
Мы ездили в Кршештёвице несколько раз в год. Когда мне было пять лет, я вместе со старшим братом семенил уже рядом с коляской, в которой везли новое прибавление нашего семейства. Больше всего мы любили ездить в Кршештёвице на Гавлов день. Бабушка пекла к празднику пироги и ватрушки — ими были полны плетенки, а отец раскошеливался и широким жестом расплачивался за пиво, которое то и дело приносили в наполненных до краев кувшинах, а поближе к вечеру приглашал к танцу всех сельских кумушек.
Позже я не раз проводил в Кршештёвице летние месяцы. Когда я возвращался домой, матушка не узнавала меня, настолько я превращался в деревенского мальчишку. Я принимал участие во всех работах, какие только случались в летнюю пору в деревне: помогал жать хлеб, возить снопы на гумно, пособлял при обмолоте и ездил на нижнюю Липовскую мельницу, пас гусей на жнивье, лазил в закрома, бродил с мальчишками у Большого пруда близ Влтавы. Словом, все, чем живет деревенский подросток, не миновало и меня.
А вечером, когда вся работа была уже сделана и в бабушкину горницу набивались дядья, вот было здорово! Столько случаев и историй тут рассказывали! Рассказывали, например, о жандарме, что хотел арестовать цыгана, который что-то украл, а потом переоделся цыганкой и плаксивым женским голосом пытался убедить жандарма — дескать, сына нет дома. Рассказывали о том, что с кем случилось во время военной службы в Тироле или Венгрии. И что кому привиделось ночью около пруда или в лесу, по пути домой. Рассказывали также о пожарах, как выгорела целая деревня, о том, какие убытки приносят наводнения, когда большая вода затопляет дома и уносит скот. Заходила речь о граде и грозах, о том, где кого убила молния — под деревом или в стогу. Доставалось и городу, когда собравшиеся ополчались против людей, не знающих предела распутству.
Об этом приходилось мне слышать и у себя в Писеке. Тут я навострял уши и порой улавливал обрывки разговоров, которые меня очень волновали.
Помню, какое беспокойство охватило город, когда разнеслась весть о том, что по улицам где-то ходят суфражистки {10} 10 Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательного права, распространилось во второй половине XIX — начале XX в. в Великобритании, США и ряде других стран.
. Я понял, что речь идет о каких-то женщинах, которых следует опасаться. Но я не представлял себе, как они выглядят. Может, они носят такие же шляпки, как наша венская тетушка? Может, она тоже суфражистка? И тетушка Тони и тетушка Анинка тоже? Ведь не зря они оставляют у нас свои шляпы и в деревню отправляются в платках.
Я долго ломал себе голову, но так и не добрался до истины. Во мне укрепилось лишь убеждение, что мир полон загадочных и удивительных вещей, которые опутывают человека словно паутина.
В канун ярмарки к нам приезжали муж и жена Людвики, милевские гончары. Они приносили охапки соломы, расстилали ее на полу и укладывались на этом немудреном ложе, как цыгане. Утром Людвики вставали затемно и старались не шуметь, чтобы не разбудить нас. Но как назло начинал скрипеть пол и звенела посуда, когда они умывались или пили кофе. Словно нарочно скрипели и хлопали двери, когда они спешили на базар, чтобы сгрузить с воза кувшины, горшки и другую глиняную посуду, с которой разъезжали по всем ярмаркам, из города в город.
Людвики были родом из Милевска, и стоило кому-нибудь упомянуть их город, перед моими глазами возникали не улицы и дома, а всевозможные изделия из глины, расставленные на соломе, как я видел это на ярмарках. Пожалуй, я даже испытал некоторое разочарование, когда родители пытались убедить меня, что Милевск — вовсе не гора из горшков и кувшинов, а такой же город, как и Писек, разве только поменьше и не такой уютный. В те годы детское восприятие нередко подводило меня, и я начинал понимать, что жизнь часто жестоко шутит над человеком и порой склонна затевать с ним коварную игру.
Я был фантазером, и в моем воображении часто соединялись несоединимые вещи, в результате чего возникала всякая путаница, и я то и дело попадал впросак, и меня поднимали на смех. Как-то пришел отец и сказал, что купил котел. Он долго мечтал о таком котле и теперь сможет вываривать в нем свои прутья. Я доверчиво спросил его, есть ли там лестница, так как решил, что котел и отель — одно и то же [6] Слова «котел» и «отель» в чешском языке почти созвучны: «котел» и «готел».
.
То были терпкие уроки, подвергавшие испытанию детское простодушие и самолюбие. Но когда я подрос, трагикомизм подобных ситуаций стал забавлять и меня самого. Склонность к юмору вообще постепенно становилась чертой моего характера, я унаследовал ее от отца, который тоже был человеком веселого нрава и любил хорошую шутку. Я не мог понять, откуда взялась в нем эта струнка. Ведь у него было трудное и незавидное детство. Внебрачный ребенок, он не знал материнской ласки — мать не любила его и тяготилась им. Воспитывали его чужие люди, от которых он тоже не видел добра, терпел только укоры и обиды. Поэтому отец и расстался с ними без всякого сожаления.
Я уже учился в первом классе, когда узнал обо всем этом. Тогда же мне стало ясно, что не только обстоятельства могут подшучивать надо мной, но и я могу платить им тем же.
Однажды в костеле нас представили какому-то высокопоставленному церковному сановнику, и я вызвал немалый переполох, когда на вопрос: «Как зовут родительницу Иисуса Христа?» — ответил: «Святой Иоаким». Его преподобие, а вместе с ним и наш священник, преподававший закон божий, буквально остолбенели от подобной детской наивности, а потом тщетно пытались переубедить меня. Я стоял на своем. Мне очень нравилось имя Иоаким. С явным неудовольствием оба они отвернулись от меня, расценив мое упрямство как греховное неведение. Однако на сей раз я уже твердо знал, что говорю. И если бы меня спросили о чем-нибудь другом, даже, к примеру, как зовут моего отца, я все равно ответил бы: «Святой Иоаким».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
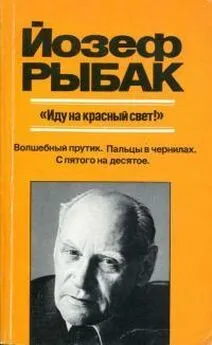
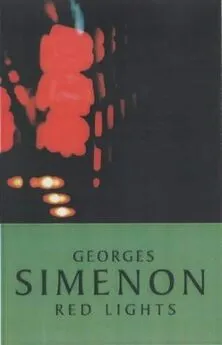
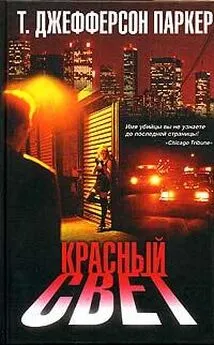
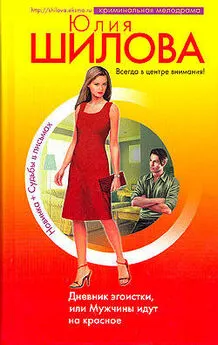

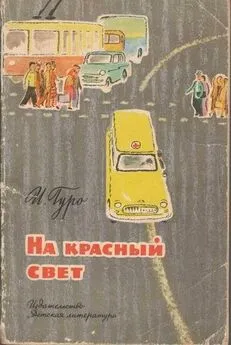

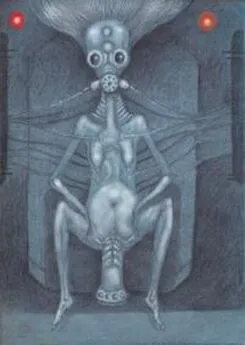
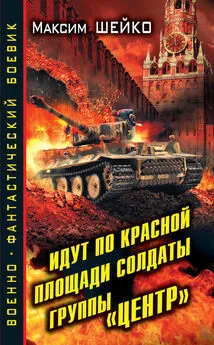
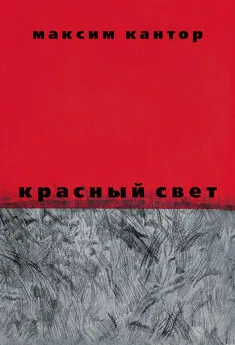
![Kaldabalog - Красный свет [Часть 1 Дэнни Призрак.]](/books/1146919/kaldabalog-krasnyj-svet-chast-1-denni-prizrak.webp)