Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!»
- Название:«Иду на красный свет!»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йозеф Рыбак - «Иду на красный свет!» краткое содержание
Большинство произведений на русском языке публикуется впервые. В книге использованы рисунки автора.
Предназначена широкому кругу читателей.
«Иду на красный свет!» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Никогда и ни с кем не было нам так хорошо. И никогда мы не были так близки к тайнам поэзии, как в тот вечер, хотя о поэзии не было сказано ни слова.
Напишет ли еще кто-нибудь такие стихи, какие писал Карел Томан? Горькие, раздирающие жестокие исповеди истерзанного сердца, полные сочувствия к обездоленным и бродягам всего мира и горячей любви к родной земле:
Черная пахота всходами затрепетала,
сумрак осенний спугнув, и забрезжили ало
зори над Чехией…
Напишет ли кто-нибудь еще такие стихи, в которых было бы все?
И даже больше чем все!
В те времена каждую неделю в Университет имени Коменского приезжал читать лекции Ян Мукаржовский — мы с ним были свидетелями на свадьбе у Клементиса. Мукаржовскому было около сорока. Он входил в Пражский лингвистический кружок {107} 107 Пражский лингвистический кружок — объединение лингвистов и литературоведов, возникло в 1926 г., прекратило существование в начале 50-х гг. Пропагандировало структурализм как методологическую основу филологии. Участником кружка был Мукаржовский Ян (1891—1975) — известный чешский литературовед, академик.
, который предлагал новые методы в литературоведении. Члены этого кружка опирались в своих исследованиях на формалистическую школу Виктора Шкловского {108} 108 …формалистическую школу Виктора Шкловского… — Имеется в виду ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка), русская школа в литературоведении второй половины 10—20-х гг. XX в.; важную роль в ее формировании сыграли книги В. Б. Шкловского «Воскрешение слова» (1914) и «О теории прозы» (1925); в противовес эклектическому академическому литературоведению представители «формального метода» считали своей задачей изучение литературы как суммы приемов. В статье «Памятник научной ошибке» (1930) Шкловский пересмотрел свои взгляды, вскрыв их ограниченность.
, но старались создать что-то свое, новое. В этой ученой материи мы не слишком-то разбирались, но были убеждены, что входившие в кружок ученые не противостояли ни новому искусству, ни марксизму-ленинизму, а, наоборот, горячо симпатизировали им.
Когда кто-нибудь приезжал из Праги, Мукаржовский или кто-либо другой, мы всегда шли с гостем в один из винных погребков и отмечали его приезд. Это стало уже своего рода традицией.
От погребка к погребку ходили торговцы с зеленью и соленьями. Они умели мгновенно приготовить блюда вроде свиного ребрышка по-цыгански, продавали рыбу в маринаде, зеленый лучок и острые салаты. Многие из них знали, чем можно привлечь наше внимание, и мы стали их постоянными клиентами. Один торговец, которому мы особенно нравились, цитировал наизусть многие изречения знаменитых людей и всякий раз вместе с гарниром из лука и цветной капусты подавал какое-нибудь высказывание Гёте, Ламартина или Шопенгауэра.
Мы не выносили как плохих людей, так и плохих писателей, и частенько в таких случаях нам с нашей юношеской бескомпромиссностью недоставало элементарной деликатности.
Нас не удовлетворял, к примеру, Ремарк. Но это могли быть также и более крупные и искусные авторы. Как только мы узнавали, что тот или иной художник гонится за славой и деньгами, он переставал для нас существовать. Так мы относились к Полю Морану, тогда модному автору, литературному снобу. В высших кругах зачитывались его книгами «Открыто всю ночь» и «Закрыто всю ночь». Но нам куда дороже была литература, которая за что-то боролась, побуждала человека стать лучше, помогала ему продвинуться вперед. Пусть даже чуточку продвинуться… Уже только поэтому такая литература была необходима и дорога.
И когда мы встречали такие произведения и таких писателей, которые умели сказать новое слово, и сказать по-новому, мы считали их своими. Мы любили левых французских авангардистов Супо и Карко, Сандрара и Валери Ларбо {109} 109 Супо Филип (род. в 1897 г.) — прогрессивный французский поэт и прозаик, в молодости — один из родоначальников дадаизма и сюрреализма. Ларбо Валери (1881—1957) — французский поэт, прозаик, критик, переводчик.
, суровых американцев, которые так хорошо знали жизнь низов, — Марка Твена, Джека Лондона, а также Дос Пассоса и Драйзера.
И бесконечно близка была нам советская литература.
Я вспоминаю «Разгром» Фадеева, «Голубые песни» Всеволода Иванова, «Железный поток» Серафимовича, «Голый год» Пильняка.
Тарасов-Родионов, автор повести «Шоколад» {110} 110 Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938) — русский советский писатель, участник гражданской войны, комдив; его повесть о революции, первых годах советской жизни «Шоколад» (1922) была переведена на чешский язык; в 1932 г. приезжал в Чехословакию; в журнале «Дав» было опубликовано интервью с ним.
, был первым русским генералом, с которым мы познакомились лично, когда он возвращался через Братиславу в Москву. Он провел с нами всего лишь день, так как спешил на родину по неотложным делам. Но эта короткая встреча врезалась в память. Тарасов-Родионов нам понравился с первого взгляда. Этот симпатичный человек и опытный писатель, много повидавший во время революции, знал жизнь в совершенстве, что, впрочем, вообще свойственно русской литературе, начиная с Гоголя, Тургенева и Достоевского и кончая такими писателями, как Горький или Шолохов.
У Тарасова-Родионова были умные живые глаза за стеклами очков, интеллигентное лицо, напоминавшее лицо сельского учителя или мастера путиловского завода. Это было лицо красного командира, который начинал с самых низших чинов и свое высокое звание завоевал в жестоких боях за победу Октябрьской революции. Таких людей мы знали по советским фильмам, по героическим эпопеям из эпохи гражданской войны и кровопролитной борьбы с контрреволюционными бандами и войсками интервентов. Тарасов-Родионов умел интересно рассказывать и о литературе, и мы с радостью слушали его. Мы показали ему Братиславу, ее достопримечательности, а когда он захотел побывать в какой-нибудь словацкой деревне, поехали вместе с ним. Генерал Красной Армии в простой деревенской халупе! Такое случается не каждый день. А ему нравилось сидеть за столом и разговаривать с простыми людьми, которые нас по-бедному, скромно угостили. Для них это была великая честь. Советскому генералу нравилось, что на стене рядом с девой Марией, как бы символизирующей старую Словакию, висел небольшой портрет Ленина.
Еще будучи членами «Умелецкой беседы», мы всегда приглашали в Братиславу для чтения лекций известных писателей. Такие мероприятия способствовали углублению и укреплению культурных связей между чехами и словаками. В Братиславу приезжали Владислав Ванчура и Йозеф Копта {111} 111 Ванчура Владислав (1891—1942) — выдающийся чешский писатель-коммунист, в годы оккупации председатель подпольного Национального комитета интеллигенции; расстрелян гитлеровцами, посмертно — народный писатель Чехословакии. Копта Йозеф (1894—1962) — чешский прозаик, поэт, драматург и переводчик.
. Всю ночь после лекции мы провели вместе. Это было незабываемо. Приезжали к нам и Ярослав Кратохвил с Йозефом Зорой {112} 112 Кратохвил Ярослав (1885—1945) — прогрессивный чешский писатель, участник подпольного движения против немецких оккупантов, погиб в концлагере Терезин. Зора Йозеф (наст. фам. Танцибудек) (род. в 1894 г.) — чешский актер и чтец-декламатор, один из основателей «Рабочего драматического хора».
. В «Редуте» {113} 113 «Редута» — в описываемое время — братиславское казино, ныне — зал Словацкой филармонии.
гремел неповторимый голос Зоры, когда он декламировал балладу Есенина о двадцати шести казненных комиссарах:
Интервал:
Закладка:
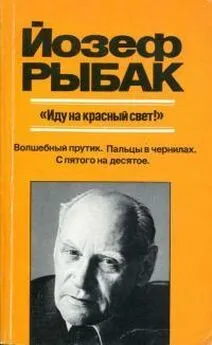
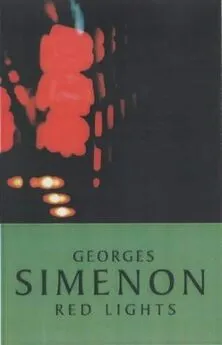
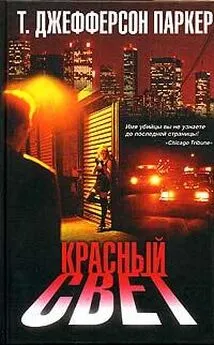
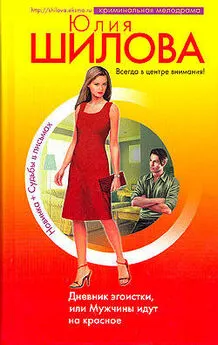

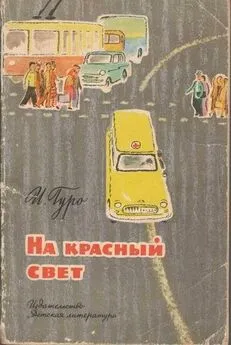

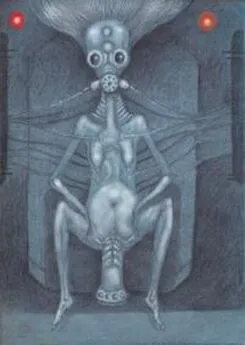
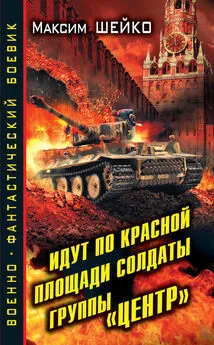
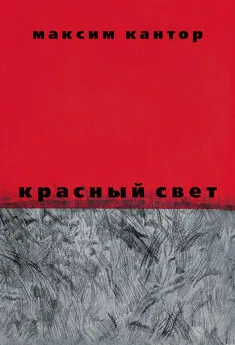
![Kaldabalog - Красный свет [Часть 1 Дэнни Призрак.]](/books/1146919/kaldabalog-krasnyj-svet-chast-1-denni-prizrak.webp)