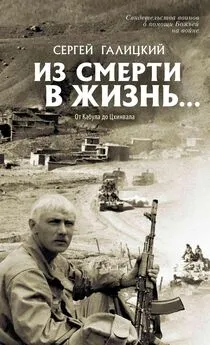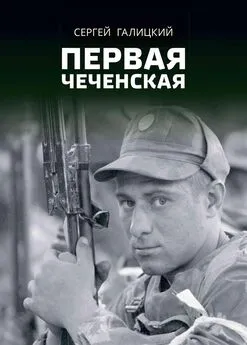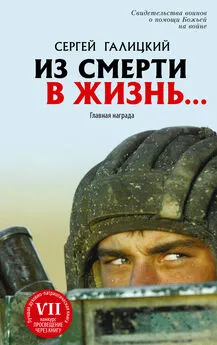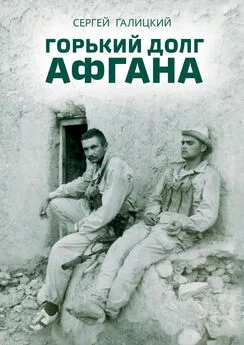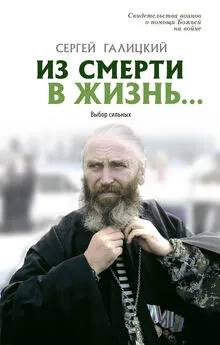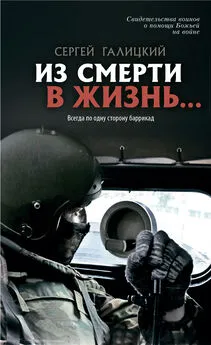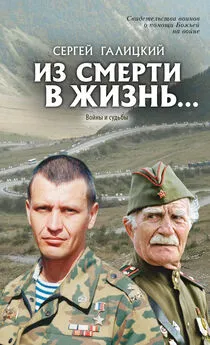Сергей Галицкий - Из смерти в жизнь… От Кабула до Цхинвала
- Название:Из смерти в жизнь… От Кабула до Цхинвала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:978-5-4380-0175-1, 978-5-4380-0179-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Галицкий - Из смерти в жизнь… От Кабула до Цхинвала краткое содержание
Из смерти в жизнь… От Кабула до Цхинвала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А нашей 85-й эскадрилье пришлось пробыть в Чечне не три месяца, как другие, а именно полгода. Правда, каждому из нас предлагали отпуск на двадцать суток. Но я, например, как представил себе, что поеду домой, как потом буду возвращаться… И вообще не поехал.
Поначалу побаивались все. Ведь для многих это была первая кампания. Лично я вообще не имел никакого боевого опыта. Но прямых отказов лететь у нас не было. Хотя, конечно, иногда я и сам видел, когда в данный момент конкретный человек психологически лететь не готов. В таком состоянии и не надо лётчику лететь, а надо ему дать какую-то паузу, чтобы он в себя пришёл. Это и была одна из главных задач командования эскадрильи — правильно распределить и настроить людей.
Первое сильное противодействие с земли произошло в октябре 1999 года. Тогда на МИ-24 полетел командир эскадрильи полковник Виктор Евгеньевич Богунов, а я должен был лететь у него оператором (оператор управляет вооружением вертолёта. — Ред.). У нас с ним была негласная договорённость: если он летает, то я сижу на КП (командный пункт. — Ред.), и наоборот. А тут подходит ко мне лейтенант Васютин, который приехал за день до этого, и говорит: «Мне бы в столовую сходить». Я его и отпустил. Только он ушёл — команда на вылет! Комэск: «Где Васютин?». Я: «Отпустил его поесть». Он: «Тогда с тобой вдвоём полетим».
Я сел в операторскую кабину, карту взял, начал курс прикидывать, уже включил оборудование и вдруг вижу: Васютин бежит. Говорю: «Евгеньич, вон Васютин». Он: «Ты тогда вылезай, полечу с ним». Они и полетели.
Но плюс к плохой погоде было сильнейшее противодействие с земли!.. Все вертолёты вернулись на аэродром с дырками. Когда они сели, Васютин блистер открыл и так и не выходил из вертолёта очень долго. Сидел и просто молчал. Потом я себя корил: ну нельзя было его так сразу бросать в пекло. Но предугадать, что он в первом же полёте попадёт в такую заваруху, было невозможно.
В том же октябре мы с Мишей Синицыным корректировали огонь артиллерии. Летаем на высоте около тысячи метров, а артиллерийский наводчик в бинокль смотрит на мост через Терек у станицы Червлёная и своим по радиостанции передаёт: «Правее, левее…». И тут я вижу, что вокруг нас какие-то маленькие облачка появляются, как в фильме «Небесный тихоход». И только потом я сообразил, что это по нам зенитная установка от моста работает, но снаряды не долетают и самоликвидируются. Стало немного жутковато. Но со временем я и к этому привык.
Без вертолётов в Чечне просто никак: ведь всем надо было куда-то срочно добраться, а вертолёт — лучшее средство передвижения: быстро и относительно безопасно. Поэтому у меня в кабине были две таблички. Я собственноручно с одной стороны картонки написал «Обед», а с другой — «Вертолёт никуда не летит».
Прилетаешь на площадку с начальником каким-то или раненого забрать — и тут же вокруг тебя начинают ходить люди, которым куда-то надо. Большинство хотело лететь в Моздок (база российской армии на территории Северной Осетии. — Ред.). Сидишь и через блистер каждую минуту отвечаешь на один и тот же вопрос: «В Моздок летишь?». — «Нет». Когда устанешь отвечать, ставишь табличку «Обед». Народ никуда не уходит, терпеливо ждёт окончания обеда. Потом переворачиваю табличку — все подтягиваются, чтобы прочитать, что на ней написано. А там: «Вертолёт никуда не летит».
Хотя, конечно, часто брали… В конце декабря 1999 года до очередного штурма Грозного оставался один-два дня. В штабе группировки шло совещание. Я сижу на КП, руковожу полётами. Тут звонит майор Покатило и говорит: «Николаич, меня заставляют лететь на Сунженский хребет. А нижний край облачности — сто метров». Сам хребет высотой около пятисот метров, то есть на хребте точно ничего не видно. Я ему: «Да ты что? Нельзя лететь ни в коем случае!». Он: «Да на меня тут всё командование группировки давит…». Я: «Ты пока не соглашайся, я сейчас что-нибудь придумаю».
А лететь нельзя не потому, что страшно, а потому что нельзя. Но пехоте разве докажешь, что это не только нарушение мер безопасности. Ну, подумайте, как лётчик будет снижаться в горах в тумане? У него не будет возможности определить, где земля, он ведь её просто не увидит. Столкнётся со склоном — и всё…
Звоню Покатило и говорю: «Юра, скажи, что у тебя керосина нет». Он обрадовался и генералам говорит: «У меня до хребта керосина не хватит, только до Калиновской». (Военный аэродром в двадцати километрах севернее Грозного. — Ред.) Они: «Хорошо, лети в Калиновскую». Через некоторое время прилетает Покатило, и из его вертолёта выходит генерал Михаил Юрьевич Малафеев (через несколько дней он погиб в бою при штурме Грозного). Подхожу, приветствую его: «Здравия желаю, товарищ генерал! А вы чего прилетели?». Он говорит: «О, Бабушкин, здорово! Мне сказали, что какой-то другой лётчик меня на Сунженский повезёт. У Покатило керосина нет. Сейчас полечу с другим».
У меня аж сердце остановилось: с каким другим!?. Говорю: «Да нет здесь никаких других лётчиков! Один я тут». Он: «Вот ты меня и повезёшь!».
Звоню начальнику авиации группировки подполковнику Василию Степановичу Кулиничу. Говорю: «Вы что, с ума сошли? И что мне теперь — просто так сложить голову самому, экипажу и генералу вместе с нами? Вы соображаете, какую задачу вы ставите?». Он: «Николаич, помочь ничем не могу, выполняй задачу».
Я Малафееву говорю: «Товарищ генерал, я сейчас буду читать вам инструкции по вертолётовождению, по минимальным безопасным высотам…». Он: «Ты что мне мозги паришь? Полетели — и всё».
Что делать, не знаю. Вызываю правого лётчика — лейтенанта Удовенко. Ни майора, ни капитана, а именно лейтенанта! Говорю ему: «Вот Калиновская, где мы сейчас, вот площадка в горах. Взлетаем, проходим привод, и ты включаешь секундомер и ДИСС (прибор, который измеряет путевую скорость. — Ред.). Проходим двадцать километров, разворачиваемся. Ты снова включаешь секундомер. И когда мы будем в этом районе, ты мне скажешь: командир, мы в районе». В то время никаких спутниковых навигаторов у нас и в помине не было.
Взлетели и сразу вошли в облака. Идём на высоте семьсот метров в облаках. Лейтенант мне говорит: «Командир, курс такой-то». И включает секундомер. То есть летели мы полностью вслепую — никаких радионавигационных средств, ни-че-го…
Через какое-то время он говорит: «Командир, мы в районе». Сердце сжалось — надо снижаться. А куда снижаться? Кругом сплошной туман… Гашу скорость с двухсот до семидесяти, ставлю крен двадцать градусов и жду, когда об землю стукнемся. Но так как скорость снижения всего метра полтора в секунду, поэтому утешаю себя тем, что если стукнемся, то хотя бы несильно. Барометрический высотомер показывает высоту пятьсот метров, а радиовысотомер — сто пятьдесят метров. Принимаю решение — снижаюсь до ста по радиовысотомеру, а потом буду уходить. Ну не убиваться же сознательно! И пусть меня потом хоть расстреливают…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: