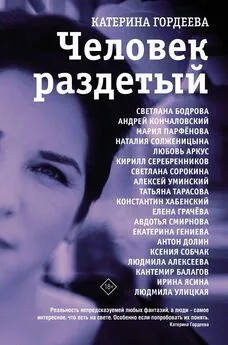Катерина Гордеева - Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]]
- Название:Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-120357-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Катерина Гордеева - Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]] краткое содержание
С героями этой книги – Константином Хабенским и Татьяной Тарасовой, Людмилой Улицкой и Кантемиром Балаговым, Ксенией Собчак, Кириллом Серебренниковым, Светланой Бодровой и многими другими – она говорит о современном театре и телевидении девяностых, о благотворительных фондах и феминизме, о правозащитном движении и влюбленностях. Интервью превращается в доверительную беседу (у каждой своя предыстория и свое настроение), и герои предстают такими, какие они есть на самом деле: влюбленными, рассерженными, смешливыми, отчаянными, уставшими или готовыми к борьбе.
Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Я просто не хотел, чтобы было ощущение, что мы наслаждаемся, упиваемся страданиями главных и второстепенных героев. Я отдавал себе отчет в том, что если не будет вот этой какой-то чрезмерности, то фильм будет очень… Как вам это объяснить? Я подумал, если сделать кадр мрачным, мои герои не будут выглядеть достойно, они будут смотреться упаднически, даже безнравственно.
– Но они люди, прошедшие войну и вернувшиеся в город, который пережил блокаду. У них нет сил никак выглядеть.
– Да. Но многие это забывают. Например, многие удивляются, почему Маша так отреагировала на смерть ребенка? Как – почему? Потому что она – человек, привыкший к смерти. Готовясь к фильму, я очень подробно изучал «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича, я читал блокадные дневники. Я понял, что у людей, прошедших через эти жернова, сбился, если можно так сказать, нравственный компас, атрофировались чувства и наступила так называемая «моральная дистрофия».
Поэтому реакция Маши – в ее ситуации – это нормальная реакция: умер ребенок, да, значит, мне нужен новый ребенок, поехали за ним. И они едут, пытаясь зацепиться хотя бы за что-то в этой жизни. И вот, возвращаясь к красоте в кадре, которая вас задела, я намеренно это делал потому, что я хотел приподняться чуть-чуть над той реальностью, которая была.
– Такое построение кадра превращает «Дылду» в притчу, так?
– Отчасти да. Но еще не забывайте, что Ия – всё-таки контуженный человек. И может быть, таким видит мир контуженный человек. Эти смещения красок тоже, может быть, с точки зрения ее взгляда на мир, оправданы.
Цвет был для меня принципиален. Я, когда готовился к «Дылде», часто загонялся, что все фильмы про войну – они такие монохромные, приближенные к черно-белой картинке, к серому. Если на такую картинку накладываются сложные поступки героев, то получается кино, которое уже было, которое мне бы не понравилось. Поэтому я сделал так, как сделал.
Да, я не отрицаю: возможно, где-то я переборщил. Может, это было связано еще со страхом второго фильма, и я пытался показать, что всё не случайно, и в какой-то момент, может быть, перегнул палку.
– Меня удивила в «Дылде» одна не содержательная, а, скажем так, относящаяся к оформлению деталь. Первый титр, который мы видим, – это фамилия продюсера Александра Роднянского. Не ваша, режиссера, а продюсера. Почему?
– А что вас так удивило? Такой регламент в этой компании. Да и нету у меня амбиций в том, чья там фамилия в начале, чья – в конце. Мне человек помог снять фильм. Мы сняли его, что очень важно, без государственной поддержки.
– Это принципиально?
– Нет. Но я на процентов 90–95 уверен, что никакой господдержки «Дылде» не дали бы. Отсутствие государственных денег для меня не принципиально, но я не хочу делать фильм с оглядкой на кого-то. Цензура нужна только тогда, когда это самоцензура, когда она исходит от тебя самого, а не от регулирующего органа, от государства. Или даже от кого-то другого. Это, мне кажется, непозволительно. В этом плане я очень благодарен Александру Роднянскому. Никакого давления на меня не было. Вы можете верить или не верить, но у меня была абсолютная творческая свобода. И это еще не всё.
Всё, что я просил для фильма, всё было сделано. На стадии монтажа – а картина шла три часа пятнадцать минут – было кое-что вырезано, была вырезана одна сцена с второстепенными героями. Потом всё понемногу сжималось. Но Александр Ефимович ни на чем не настаивал. Он просто говорил: «Я тебе предлагаю, посмотри, попробуй вот тут сократить. Но если ты чувствуешь, что тебе этот вариант не подходит, не делай этого. Это авторское кино».
И я уверен, что даже на финальном этапе какие-то вещи могут его не устраивать. Но в этом плане, когда он очень четко разделяет коммерческое и авторское кино, он дает нам свободу.
– Вам?
– Сейчас Кира делает кино, в котором тоже продюсер – Роднянский. И я вижу, как у нее это происходит. Он не довлеет, он отпускает.
– Однако же к картинам, спродюсированным Роднянским, и к «Дылде» в том числе, предъявляют претензии в том, что это кино, ориентированное так или иначе на западный рынок, на кинофестивали.
– Что бы я сейчас ни сказал, вы никогда не поверите. Я – заложник мнения, что «Тесноту» снял Сокуров, а «Дылду» – Роднянский. Я не буду тратить силы на то, чтобы с этими стереотипами бороться.
– Вы сейчас общаетесь с Сокуровым?
– Мы периодически переписываемся. Ну как? Я ему пишу, он иногда отвечает, иногда не отвечает. Но вот я тут был в Теллуриде, это в США, штат Колорадо, такой закрытый фестиваль. Я там был с «Дылдой». И ко мне подошел Вернер Херцог. Мы начали разговаривать. Он начал говорить про Сокурова. И оказалось, что подруга Херцога – один из организаторов этого фестиваля. И оказалось, что у нее есть фотография Сокурова: в 97-м году он сидит в автомобиле как раз в Теллуриде Колорадо. Она мне эту фотографию подарила. Мне было очень приятно: какое-то ощущение связи, понимаете? Это был очень дорогой для меня момент. Я отправил фотографию Александру Николаевичу. Он ответил: «Благодарю за память».
Я скучаю по нему. Я бы очень хотел показать ему «Дылду» на ранней стадии. Наверное, он бы не захотел смотреть. Я даже думаю, что он и не видел фильма. А если видел, я уверен, что ему не понравилось. Но я считаю себя учеником Сокурова. Большей частью того, что во мне есть, что я сейчас имею, я ему обязан.
– Вам стала нравиться фестивальная жизнь?
– Знаете, с «Теснотой», когда я был в Каннах, мне было очень неловко, неуютно. С «Дылдой» я чувствовал себя чуть более спокойно, но это связано с тем, что я уже знаю там некоторых людей, я познакомился с кем-то. Но всё равно в смокинге чувствую себя некомфортно.
– Как вы относитесь к тому, что некоторые режиссеры с мировым именем презирают фестивали, считая их ненужными, необязательными и даже вредными?
– Да, многие считают, что это vanity fair , и отчасти так и есть. Очень многие люди приезжают туда, чтобы показать себя. Но я воспринимаю фестивали как возможность дать фильму жизнь. Вот если бы «Дылда» не попала бы ни на один фестиваль класса «А», количество зрителей, ее посмотревших, было бы намного-намного меньше. С одной стороны, да, это – авторское кино. С другой – хочется, чтобы твой фильм увидели. А еще фестиваль – это повышающаяся вероятность того, что тебе со следующим фильмом всегда будут помогать, за тебя зацепятся и дадут тебе какую-то возможность реализоваться. Поэтому я ничего не вижу плохого в них.
Правда, сейчас я от многих фестивалей отказываюсь, если нет обязательств. Еду только туда, куда не могу не поехать. Фестивали, конечно, отнимают кучу времени: это одно и то же, одно и то же – бесконечные интервью, на девяносто процентов которых приходят журналисты, которым абсолютно всё равно, что ты скажешь, им просто нужно забить материалом колонку, сайт или телепередачу. И я про себя понимаю, что просто трачу время и постоянно говорю о прошлом, а меня страшно тянет домой, где я смогу сесть и думать о новом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Катерина Гордеева - Человек раздетый [Девятнадцать интервью [litres]]](/books/1073224/katerina-gordeeva-chelovek-razdetyj-devyatnadcat-i.webp)

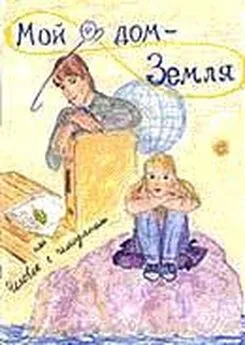
![Дмитрий Быков - Литературная мастерская [От интервью до лонгрида, от рецензии до подкаста] [litres]](/books/1064001/dmitrij-bykov-literaturnaya-masterskaya-ot-intervyu.webp)
![Катерина Гордеева - Правила ведения боя. #победитьрак [litres]](/books/1073449/katerina-gordeeva-pravila-vedeniya-boya-pobeditra.webp)
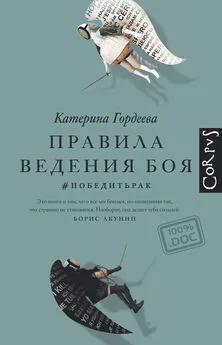
![Джоди Пиколт - Девятнадцать минут [litres]](/books/1075638/dzhodi-pikolt-devyatnadcat-minut-litres.webp)
![Александр Афанасьев - Человек и то, что он сделал… Книга 2. Свершилось [litres]](/books/1076333/aleksandr-afanasev-chelovek-i-to-chto-on-sdelal-k.webp)
![Энн Райс - Интервью с вампиром [litres]](/books/1089283/enn-rajs-intervyu-s-vampirom-litres.webp)
![Джейсон Старр - Человек-Муравей. Настоящий враг [litres]](/books/1094270/dzhejson-starr-chelovek.webp)