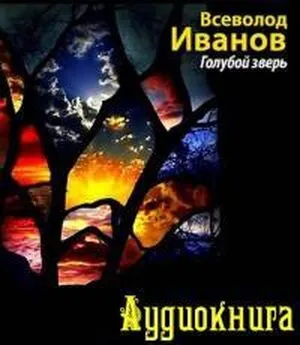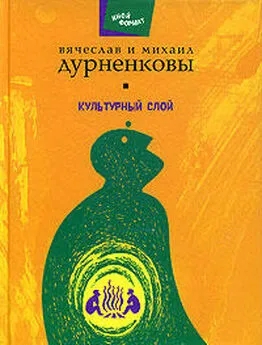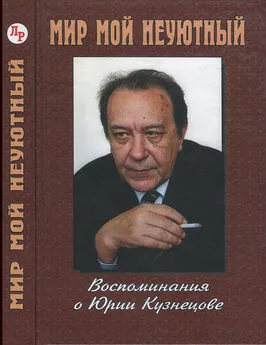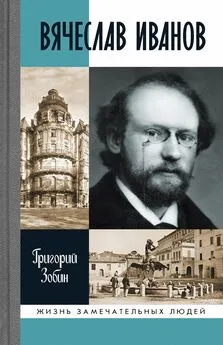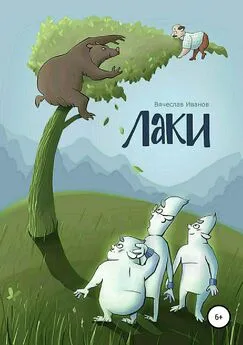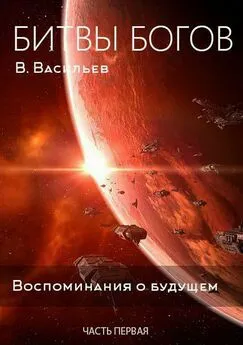Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания)
- Название:Голубой зверь (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания) краткое содержание
Здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит.
Голубой зверь (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда я уже в конце второго семестра первого курса переработал и перепечатал свое разросшееся сочинение об одах для дувакинского семинара, я показал его Николаю Семеновичу Поспелову, который вел у нас занятия по современному русскому языку. Ему эта работа понравилась, он дал ее прочесть В. В. Виноградову, тот, по словам Поспелова, возил ее в поездке в Ленинград, куда ездил читать лекции. Так состоялось мое первое, тогда заочное знакомство с этим примечательным человеком, с которым мне предстояло проработать несколько лет вместе в журнале «Вопросы языкознания». Как и некоторые другие люди из близкого окружения Виноградова, Н. С. Поспелов воплощал для меня русскую старину во всем своем облике, словно вышедшем из прошлого века. Мне же нравилось то, что в своем спецкурсе о синтаксисе «Медного всадника» он развивал идеи Тынянова о тесноте стихотворного ряда.
Меня все больше занимали связи поэтики и языкознания. Лето между первым и вторым курсами я провел в чтении книг по лингвистике. Пешковский, Потебня, Вандриес, Соссюр и особенно Сэпир манили всерьез заняться этой наукой и теорией знаков вообще. Впервые замаячили контуры будущей семиотики. В начале второго курса я увидел на стене на филологическом факультете прикрепленную кнопкой записку, написанную аккуратным почерком Михаила Николаевича Петерсона. В ней он сообщал, что занятия санскритом начнутся такого-то числа в таком-то месте, куда приглашаются все желающие. Изучение санскрита составляло часть осуществлявшейся Петерсоном в одиночку и с большим политическим риском программы преподавания сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Она отвергалась в то время официальным языкознанием, придерживавшимся марровского «нового учения о языке». Поэтому и занятия санскритом носили характер, промежуточный между масонской ложей и кружком заговорщиков. Я уговорил пойти на эти занятия В. Н. Топорова, с которым мы тесно подружились еще на первом курсе (было много знаков, по которым мы угадали общность предстоящей судьбы). Через десять лет нам предстояло с Топоровым написать вместе книжку «Санскрит». В нашу санскритскую группу вошли и другие общие друзья с разных отделений того же курса: П. А. Гринцер и Т. Я. Елизаренкова, позднее ставшие профессионалами-индологами, Т. В. Булыгина. Петерсон читал с нами «Махабхарату» и другие санскритские тексты. Он же потом преподавал нам литовский язык и сравнительную грамматику всех индоевропейских языков (остальные языки этой семьи каждый из нас учил или на других отделениях, или по книгам). Петерсона нисколько не останавливали все увеличивавшиеся гонения властей на всю эту область знаний.
Хорошо помню утро, когда рано встав, я вынул из почтового ящика номер газеты «Культура и жизнь» (в интеллигентском просторечии прозванной «Ни культуры, ни жизни»), издававшейся ЦК партии. В нем я прочитал статью, где Петерсона обвиняли чугь ли не в фашизме. И на том лишь основании, что в своей работе о заслугах Фортунатова, создателя Московской лингвистической школы, Петерсон — верный до догматизма его последователь — упомянул одно из его открытий в предыстории звуков санскрита, признанное немецким лингвистом Хиртом в его многотомной сравнительной грамматике индоевропейских языков! В то время ссылаться на иностранных ученых вообще было опасно. А раз ученый немецкий, значит, можно и в фашизме обвинить. Когда я прочитал газетную ругань, я подумал .с беспокойством: каково теперь Педерсону? Но наш санскритский урок в то утро состоялся, как всегда, вовремя. Петерсон с его поразительно прямой выправкой, маленький, собранный, вошел в аудиторию своим четким шагом и немедленно приступил к чтению текста санскритской поэмы. Ни на его лице, иногда насмешливом, но никогда не угрюмом, ни в его голосе ничто не выражало волнения. Сколько подлинного героизма от него требовалось, чтобы продолжать учить студентов сравнительной грамматике несмотря на запреты!
После смерти Петерсона я узнал и о едва ли не большей его заслуге перед русской культурой. На протяжении всего советского времени Петерсон хранил у себя дома доставшийся ему от отца — душеприказчика философа Н. Федорова — архив, содержавший материалы предполагавшегося третьего тома федоровской «Философии общего дела». После смерти М. Н. Петерсона его вдова передала архив в Ленинскую библиотеку — бывший Румянцевский музей, хранителем книг — библиотекарем и смотрителем — в которой был Федоров. Он получал небольшое жалованье,, которое в малой степени тратил на себя, он жил среди книг, как отшельник в скиту. Часть своих денег он отдавал таким своим воспитанникам, как Циолковский — глухой мальчик, которого не могла обучить тогдашняя школа, а Федоров согласился учить с помощью книг. Не только потому, что Федоров первым увидел смертельную опасность для человечества в развитии научной технологии, и не только из-за его биографических связей с Циолковским он по праву занимает теперь видное место в истории идей нашего времени. В ту пору, когда наш Сектор в Институге славяноведения занимался погребальным обрядом как темой, объединяющей лингвистику, археологию, этнографию, мы проводили конференцию по этой теме. Мне не хотелось, чтобы она оканчивалась на печальной погребальной ноте. Я пригласил С. Семенову рассказать о федоровской идее физического воскрешения мертвых как сверхзадаче, которая должна быть дана науке (в частности, для того, чтобы отвлечь ее от занятий, грозящих человечеству гибелью). Я позвал на это заседание нашего друга, выдающегося генетика Кирилла Гринберга (он умер совсем молодым вскоре после эпизода, о котором я рассказываю). Кирилл был изумлен мыслями Федорова, взял у меня его книги и, возвращая их, сказал, что федоровские общие идеи и его проект музея очень близко подходят к новейшим представлениям генетиков, занятых геномом человека. Теперь все уже знают о теоретической возможности воссоздания ДНК умершего по сохранившимся его клеткам (как ДНК индейцев пуэбло по их мумиям изучают для понимания прошлого первоначального населения Америки). От морального состояния будущего общества и ученых зависит, согласятся ли они на программу, подобную федоровской. Но возможности эти уже сейчас начинают становиться куда более реальными, чем в то время, когда Маяковский, видимо, узнавший о Федорове от своего соученика художника Чекрыгина (автора замечательной графической серии, воспроизводящей будущее воскрешение мертвых), писал свое прошение о воскрешении в «Про это».
Я могу только гадать о том, повлияло ли раннее знакомство с идеей научного воскрешения мертвых на выбор Петерсоном сравнительного языкознания как основной области занятий: ведь главная цель этой науки — восстановление древнего языка, на котором говорили предки носителей современных языков. Могу только сказать, что самого Федорова очень интересовала сравнительная грамматика индоевропейских языков, а сравнение ее методов с молекулярной биологией, которая, по Кириллу Гринбергу, напоминает идеи Федорова, становится все более распространенным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: