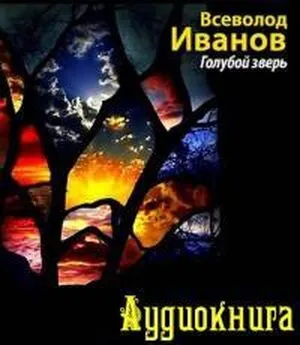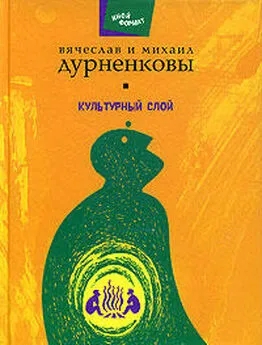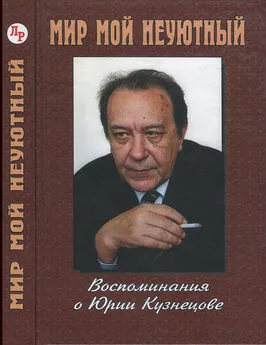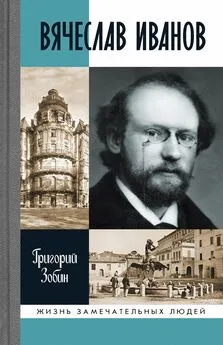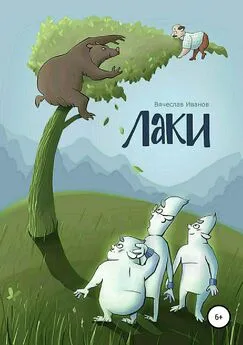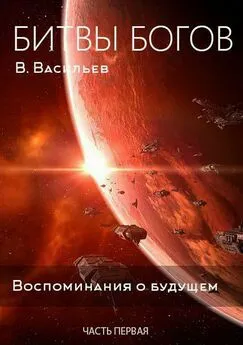Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания)
- Название:Голубой зверь (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания) краткое содержание
Здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит.
Голубой зверь (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тот год, когда я слушал лекции Смирницкого по истории английского языка, меня зимой вызвали в партбюро филфака. Со мной разговаривали члены комиссии, проверявшей факультет. Среди них был Н. Ф. Яковлев, в прошлом очень талантливый лингвист, один из предтеч фонологии и вдохновитель Московской фонологической мхолы. Я зачитывался его грамматиками северокавказских языков. Но к тому времени он примкнул к марристам и участвовал в травле их научных противников. Этот грузный рослый мужчина, глыбой усевшийся в партбюро, стал меня допрашивать: «А что этот Смирницкый (он произносил окончание фамилии на деланно старомосковский лад, не смягчая кии, уподобляя последний гласный ы) говорит вам о прагерманском языке?» И, не дожидаясь моего ответа, пояснил, почему нельзя этого делать: прагерманский язык по злокозненным выдумкам компаративистов продолжается в древнеанглийском языке, как наследственное вещество продолжается в поколениях, согласно вейсманистам-морганистам (а их, то есть всю современную генетику, только что перед тем отменил Лысенко на устрашающей сессии ВАСХНИЛ). Я что-то пробормотал, что Смирницкий говорит нам только о самом древнеанглийском (на самом же деле он, конечно, часто пользовался реконструкциями прагерманских форм, без этого раннюю предысторию английского языка не опишешь). Яковлев за свою циническую измену науке тяжело поплатился: его после лингвистической дискуссии уволили из Институга языкознания (Виноградов потом говорил мне, что сделал это по настоянию и под нажимом Чикобава, о чем сожалел). Яковлев попал в сумасшедший дом, там и умер, рассудок к нему не вернулся.
12
В недавно вышедших многочисленных статьях и книгах, касающихся истории нашей «тартуско-московской» школы семиотики, есть немало рассуждений о том, кто из нас начинал как литературовед, а кто как лингвист. Про себя могу сказать, что я стал заниматься филологией из-за своих интересов к поэзии, и на первом курсе у меня безусловно в центре интересов было литературоведение. Постепенно меня все больше занимала и лингвистика. Но окончательно на ней сосредоточиться (хотя бы, как оказалось потом, на несколько лет) я решил потому, что путь к серьезным занятиям в литературоведении оказался закрытым. В этом я не был одинок: похожим было и изменение научных интересов моего ближайшего университетского друга В. Н. Топорова, который так успешно занимался русской литературой у моего давнего знакомца И. Н. Розанова, что тот верно предсказал в разговоре со мной летом 1948 года: «Топорову быть академиком».
Одним из первых доказательств грустного вывода о невозможности заниматься тем, что казалось всего интересней, была внезапная отмена доклада П. Г. Богатырева. Богатырева начали преследовать. Я очень его ценил. Тогда он был единственным членом Пражского Лингвистического кружка, которого мы могли видеть. Мы с Топоровым пришли на одну из самых скучных защит докторских диссертаций, только чтобы послушать оппонентскйй отзыв Богатырева. Так и великих ленинградских литературоведов — Гуковского до его ареста и гибели и Эйхенбаума — мне довелось послушать благодаря их выступлениям на защите на московском филфаке.
Богатырев был маленького роста, очень близорукий, с неуклюжими, иногда смехотворными чудаковатыми жестами, большим чувством юмора и несколько странным смехом. Он был похож не на фольклориста, а на сказочного фольклорного персонажа. С самим Богатыревым враги не смогли сладить. Но они ему нанесли тяжелый удар. Арестовали его сына Костю, о котором я уже говорил.
Его отца — Петра Григорьевича мы неизменно видели на всех наших структура- листических и семиотических сборищах и дискуссиях. Он всегда нам помогал, ни в ком из старшего поколения не было столько доброжелательства и тепла. Помню замечательный его доклад на фольклорной комиссии Дома литераторов, где он рассказывал о спектакле, виденном им когда-то в ру£ской деревне. Представление шло на дереве, которое, как сцена в раннем театре, воплощало весь мир. Он сам был артистом, слушать его было как присутствовать самим на каком-то веселом и немудреном спектакле. Дома у Лили Юрьевны Брик, а потом и на одной из семиотических летних школ в Кяэрику (под Тарту) я слушал живые и забавные рассказы Петра Григорьевича и Романа Якобсона об их первых фольклористических поездках в Верейский уезд и о Московском и Пражском кружках. Богатыреву в рассказах обычно отводилось амплуа комика или даже клоуна. Он блестяще играл эту роль.
Но все эти веселые воспоминания, доклады и юбилеи Богатырева, где я неизменно участвовал, поздравляя его от разных семиотических учреждений, еще предстояли впереди. Все это оказалось возможным после перемен середины 195 0-х годов. А за десять лет до того казалось, что все это направление деятельности — не только литературоведение, но и фольклористика — обрываются. Для меня это ощущение тогда связалось с личностью литературоведа Р. М. Самарина.
Я познакомился с ним в книгохранилище Библиотеки Института мировой литературы, откуда я имел возможность брать книги по отцовскому абонементу. Благодаря этой библиотеке я смог перечитать или хотя бы просмотреть и подержать в руках множество изданий на разных языках, только что вышедших и старинных. Но однажды нужной мне книги не оказалось, библиотекарша позвала на помощь Самарина, который только что переселился с семьей в Москву и за неимением квартиры занял часть помещения библиотеки. В этом и последующем разговорах Самарин сочувственно отнесся к моему увлечению Джоном Донном и другими поэтами-мета- физиками XVII в. (сам он писал тогда докторскую диссертацию о Мильтоне). Он был образован, знал языки, похвалялся близостью с известным литературоведом старой школы Белецким. Я потом занимался у него в семинаре по английскому романтизму, написал большое сочинение по эстетике Китса. Он помог мне получить заказ на перевод стихов Байрона и составление примечаний ко многим его вещам в русском однотомнике. Но, послушав его разговоры, я понял: Самарин был черносотенцем. Он любил порассуждать в духе будущих ультрапатриотов о «Дневнике писателя» Достоевского, Геок-Тепе и «хинтерланде» (Средней Азии), оказавшемся нужным России в войне с Германией.
Главным, что на всю жизнь оттолкнуло от Самарина, да и от многих других литературоведов филфака, тогда его поддержавших, стал его доклад на общем заседании Кафедры зарубежной литературы и романо-германского отделения зимой 1948 года. Это было время после убийства Михоэлса (я его знал по ташкентской эвакуации) и ареста членов еврейского антифашистского комитета (с некоторыми из них, как с П. Маркишем, мои родители дружили, другие, ценимые моим отцом, как Бергельсон, бывали у нас дома). В газетах началась кампания против космополитов, как называли писателей или критиков с еврейскими фамилиями (если фамилия могла показаться русской, ее сопровождали в погромной статье еврейской «настоящей» в скобках). Самарин почувствовал себя в своей стихии. Его доклад был нацистским. Мне, зачитывавшемуся в предыдущее лето «Книгой песен» и помнившему статьи военного времени о фашистских нападках на Гейне, особенно дико было слышать их повторение от Самарина. Едва ли не главной мишенью Самарин выбрал Металлова, как раз перед этим начавшего читать у нас лекции по западной литературе XIX в. (лекции были очень плохие, как подавляющее большинство лекций по литературе: Самарин, сменивший Металлова, откровенно халтурил и к лекциям не готовился). Я старался на лекции Металлова не ходить. Их прервали перед этим заседанием, его судьба была предрешена. По поводу Металлова Самарин сказал, что его буржуазный (на газетном языке тех месяцев это значило: еврейский) национализм сказался уже в выборе темы диссертации — поэзия Гейне. Обсуждение носило совсем не теоретический, а в определенном полицейском смысле прикладной характер. За обвинениями очень одаренного литературоведа Л. Е. Пинского на этом заседании вскоре последовал его арест. Один из младших преподавателей кафедры Л. Г. Андреев, бывший фронтовик, инвалид войны, за несколько месяцев до того убеждавший меня ходить на лекции Пинского и называвший его самым талантливым на всей кафедре, выступил с большой разносной речью, целиком направленной против Пинского. Я не верил своим ушам. Заседание было отвратительным, тошнотворным. Я записался в прения, чтобы по одному частному поводу защитить Пинского (я с ним тогда не был еще знаком, мы сошлись позднее, главным образом благодаря нашим близким отношениям с М. М. Бахтиным, встречались и на демонстрации в защиту Синявского и Даниэля в 1965 году). Мне не дали слова, после конца заседания у меня было насчет этого короткое объяснение с Самариным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: