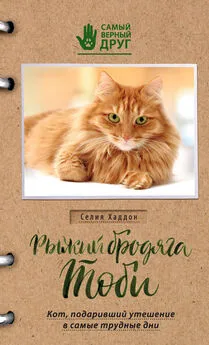Константин Сорокин - Трудные дни сорок первого
- Название:Трудные дни сорок первого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сорокин - Трудные дни сорок первого краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Трудные дни сорок первого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Константин Леонтьевич не смог увидеть свою книгу — он ушел из жизни весной 1989 года, и рукопись проделала издательский путь уже без него, самостоятельно. Но это стало возможно только потому, что она содержала данный ей автором большой идейный, нравственный и эмоциональный заряд, и этот заряд полно проявляет себя в книге, которую, читатель, вы держите сейчас в руках.
Герой Советского Союза
генерал армии И. Н. ШКАДОВ
Часть первая
Стояли насмерть
Глава первая
Эшелоны идут на запад
1
Забайкальские весны очень своеобразны: без звонких потоков полых вод, тихие, быстротечные. Дунут влажные южные ветры, смахнут снежный покров — и обнажится степь, необъятная, неоглядная. Уходит она к самому горизонту, где сливается с небом — плоская, каменисто-солончаковая. Редкие сопки хмурятся в туманной дымке…
В дождливую же летнюю пору степь от края до края покрывается густым ковром разнотравья. Ио передки здесь и засушливые годы: педелями дуют обжигающие ветры, трава не успевает подняться, выгорает, и тогда кажется, что всякая жизнь вокруг прекращается, только неприхотливые тарбаганы — маленькие пушистые зверьки — посвистывают возле своих глубоких нор. Однако жаркие дни порою сменяются такими студеными ночами, что, даже надев шинель, чувствуешь пронизывающий холод.
За четыре года армейской службы, проведенные до Великой Отечественной в Забайкалье, где был сперва начальником организационно-инструкторского отдела, а затем первым заместителем начальника политуправления военного округа, всей душой прикипел я к этому суровому краю, приобрел закалку в борьбе с трудностями. Многое запечатлелось в памяти. Но особенно — весна сорок первого. Тревожной она была. Уже вовсю бушевала война в Западной Европе, поглощая все новые страны. Немецко-фашистские войска оккупировали Польшу, Бельгию, Югославию, Францию… Война вплотную, стояла у наших западных рубежей. Мы, люди военные, это ощущали почти физически, и тревога заполняла сердце. Договор с Германией о ненападении? Но ведь для фашизма не было ничего святого! К тому же мы знали и другое: гитлеровская клика всеми силами стремилась укрепить военно-политический союз с Италией и Японией, лихорадочно разжигала агрессивные устремления у своих партнеров.
Это проявлялось и в событиях на Дальнем Востоке. Правда, Красная Армия умерила пыл японской военщины в боях у озера Хасан, а вместе с монгольскими воинами — и на реке Халхин-Гол. Но мы имели данные о продолжавшихся опасных передвижениях войск императорской Квантунской армии, пополнении ее людьми и техникой. Там, в прилегающих к нашей границе районах, прокладывались дороги, строились укрепления, аэродромы. Не прекращались и прямые провокации против советских пограничников — редкий день обходился, чтобы лазутчики не пытались проникнуть на нашу территорию. Порой им это удавалось. Помню, одного из них в последних числах января сорок первого года задержали красноармейцы 5-го механизированного корпуса. Это соединение входило в состав вновь формируемой 16-й армии, куда полгода назад я прибыл на должность начальника отдела политпропаганды.
Лазутчика доставили в штаб армии. Начальник штаба полковник М. А. Шалин, в свое время работавший военным атташе в Токио и свободно владевший японским языком, задал, помнится, среди других и такой вопрос;
— Чего вы добиваетесь, чего хотите?
Выслушав ответ самурая, Михаил Алексеевич усмехнулся — давно знакомая песенка. Перевел:
— Говорит, что им, японцам, скрывать нечего, они готовятся к священной войне в защиту земли богов. И сражаться будут непоколебимо, если даже придется грызть камни, есть траву. В смерти, говорит, заключена жизнь, этому учит дух бессмертного Нанко…
Признаюсь, кто такой Нанко, я не знал. Шалин, качнув головой в сторону самурая, пояснил:
— Это их мифический герой, который семь раз погибал и снова возрождался, чтобы служить Стране восходящего солнца…
Естественно, жили мы в постоянном напряжении, в состоянии боевой готовности. Старались учесть в подготовке войск 16-й армии то упущенное, что вскрыли бои на Хасане и Халхин-Голе, а особенно — с белофиннами.
Стойкость и мужество советского воина были известны и в комплиментах не нуждались. Но сражения последних лет выявили, например, недостаточную подготовку одиночного бойца к действиям в сложных условиях, и это нужно было поправить. Следовало также серьезно подтянуть тактическую выучку младшего и среднего командного звена, тщательнее отработать вопросы взаимодействия пехоты, артиллерии, танков, авиации. Словом, как подчеркивалось в приказе Наркома обороны СССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, надо было учить войска тому, что требовалось в современном бою.
Над решением этих задач мы и работали в зной и стужу. А начали с того, что вместе с членом Военного совета 16-й армии дивизионным комиссаром А. А. Лобачевым попросили нашего командующего генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина сделать доклад на совещании политработников, где разговор должен был идти о выполнении только что упомянутого мною приказа Наркома обороны. Михаил Федорович согласился. Выступил он обстоятельно, на конкретных примерах показал, как следует наладить учебу не только с красноармейцами, но и с командирами, политработниками.
— Присмотритесь, — говорил командарм, — к организации боевой и политической подготовки в 480-м стрелковом полку 152-й стрелковой дивизии, которой командует полковник Чернышев. В этом полку уже успели оборудовать стрельбище, тактический городок. А ведь условия в нем такие же, как и в других новых частях, ничуть не лучше. Значит, очень и очень многое зависит от нас самих, от инициативы командного и политического состава, его настойчивости…
После совещания во всех частях прошли партийные и комсомольские собрания. На них по рекомендации члена Военного совета 16-й армии в обязательном порядке выступали командиры и их заместители по политчасти. Разумеется, не остались в стороне и мы, работники отдела политической пропаганды, — разъехались по всем нашим соединениям. Сам я побывал в 109-й мотострелковой дивизии, где вскрылись весьма существенные упущения. Главное внимание здесь сосредоточили на строительстве землянок, ослабив при этом боевую учебу личного состава. Недостаточно активно велась партийно-политическая работа. Поинтересовался я у красноармейцев: регулярно ли газеты читают? Оказалось, уже несколько дней в руках не держали.
— Как могло случиться такое? — спросил я командира дивизии полковника Н. П. Краснорецкого.
— Увлеклись бытом. Перестарались, — последовал чистосердечный ответ. — Постараемся исправить недостатки в кратчайший срок. Отдадим учебе все силы!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
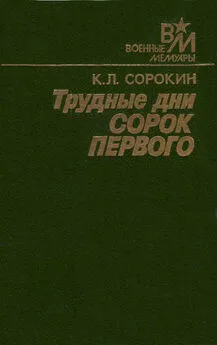

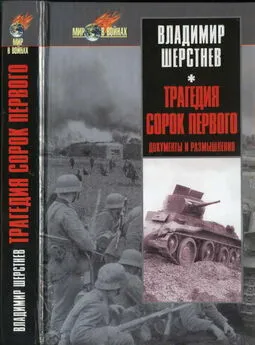
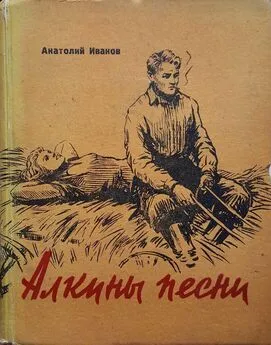
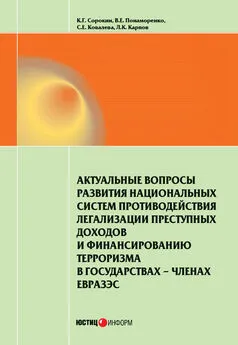
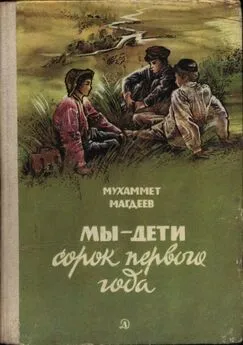
![Петр Беляков - Самые трудные дни [Сборник]](/books/1069462/petr-belyakov-samye-trudnye-dni-sbornik.webp)