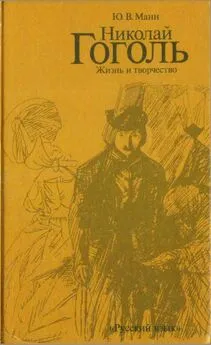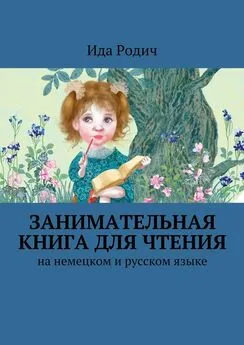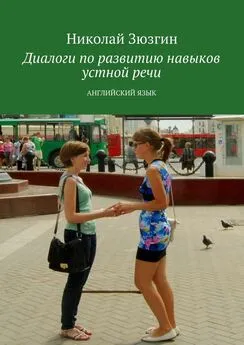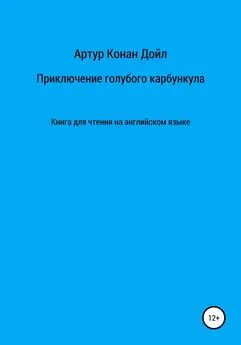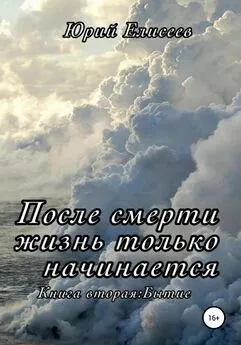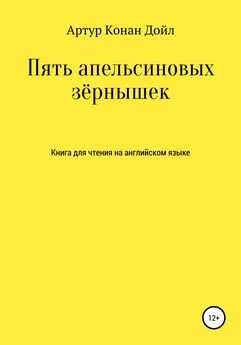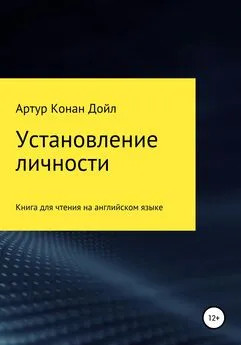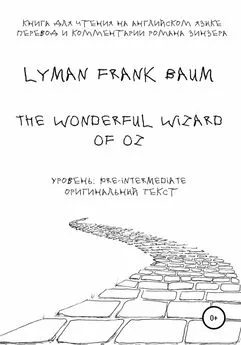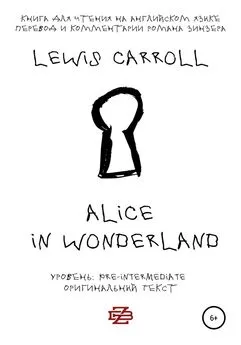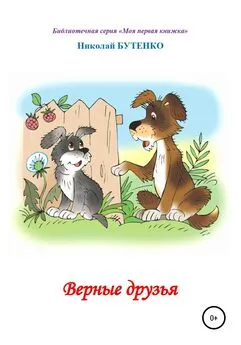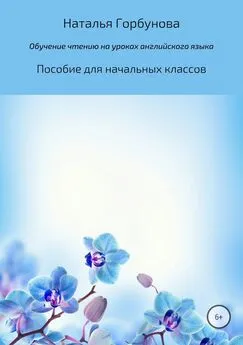Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Название:Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский язык
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:-200-00073-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) краткое содержание
Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней".
"Пожалуй", — говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку, — "попробуем, как оно будет".
Ординарность жизни складывается из повторяемости — одних и тех же слов, реплик, поступков. Многое из описанного в "Старосветских помещиках" или в "Повести о том, как поссорился…" дано в форме многократного действия: "Каждый воскресный день надевает он бекешу и идёт в церковь". "Иван Иванович лежит весь день на крыльце…" Или: "Оба старичка́, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать"; "на дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению , вступал с ним в разговор…" и т. д.
Повторяемость создаёт впечатление, что вроде бы и не скрывается за всем происходящим никаких чувств, как будто делается всё это автоматически. Некий недоступный постороннему взгляду механизм управляет вечным круговоротом речей и поступков. Механистичность — излюбленный аспект гоголевского изображения, впервые достаточно чётко выступивший в повестях "Миргорода" или "Арабесок".
Однако механистичность у Гоголя — всегда сложное явление, ибо оно глубоко коренится в человеческой психологии. За повторяемостью реплик и поступков угадываются скрытые движения души: безобидные, даже подчас трогательные, "тёплые" — в одном случае ("Старосветские помещики"), каверзные, агрессивные, злые — в другом ("Повесть о том, как поссорился…").
Вот Иван Иванович останавливается перед нищенкой; делал он это, как видно, из раза в раз, по воскресеньям. Разговор представляет собою цепь реплик (вопросов), повторяющихся по возрастающей линии.
"Здорово, небого [2] бедная
!" — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. "Откуда ты, бедная?" — "Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети…" "Гм! что ж тебе разве хочется хлеба?" — обыкновенно спрашивал Иван Иванович. — "Как не хотеть! голодна, как собака". — "Гм!" — отвечал обыкновенно Иван Иванович: "так тебе может и мяса хочется?" — "Да всё, что милость ваша даст, всем буду довольна". — "Гм! разве мясо лучше хлеба?" — "Где уж голодному разбираться. Всё, что пожалуете, всё хорошо". При этом старуха обыкновенно протягивала руку. "Ну, ступай же с богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!"
Кажется, диалог рождается непроизвольно-механически: каждое новое слово даёт повод Ивану Ивановичу задать новый вопрос. Завершается же сценка, по всем правилам комического, чувством обманутого ожидания: вместо того, чтобы предложить просительнице всё, о чём он выспрашивал, Иван Иванович не даёт ей ничего. При этом за его примитивнейшими репликами и их самой простой связью угадывается психологическое движение: чувствуется что-то похожее на сладострастное мучительство упивающегося своим превосходством над ближним!..
По словам Гоголя, Пушкин восхищался его "способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого". В "Миргороде" (как и в повестях из "Арабесок") эта способность проявилась ясно и сильно на бытовом, повседневном материале.
Но ординарность жизни обманчива и в том смысле, что обнаруживает непредвиденные повороты, скрытые "бездны", если воспользоваться выражением Достоевского. Так, "привычка" двух старых людей, двух скромных владетелей помещичьего гнезда оказалась сильнее самой пылкой романтической страсти. А ссора двух обывателей, двух Иванов — ссора по ничтожному поводу — поглотила все их интересы, заботы, да и самоё жизнь.
Гоголь последовательно меняет освещение, меняет ракурс, в котором видится нам персонаж. И, скажем, тот же Иван Иванович или Иван Никифорович из пакостников и кляузников*, достойных лишь весёлой насмешки и презрения, превращаются в людей, вызывающих жалость. Таков смысл знаменитого финала повести: "Скучно на этом свете, господа!" "Скучно" — потому что зло не замкнулось в нескольких лицах, но разлилось повсеместно, извратив весь строй человеческих отношений и понятий.
Люди "задавили корою своей земности*, ничтожного самодоволия высокое назначение человека". Это написал ещё Гоголь-гимназист, выбирая свой жизненный путь. Теперь это убеждение вылилось в проникающие, поразительные по силе художественные полотна.
Кстати, в "Повести о том, как поссорился…" впервые у Гоголя получили отражение сцены российского судопроизводства. О многом уже говорит внешний вид храма Фемиды*. "Один только он окрашен цветом гранита: прочие все домы в Миргороде просто выбелены. Крыша на нём… была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские*, приправивши луком, не съели…" "…На крыльце всегда почти рассыпаны кру́пы или что-нибудь съестно́е, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей". Затем следует галерея самих служителей правосудия: судьи́, который из очередного дела не услышал и полслова, так как был занят разговором о певчих дроздах; секретаря, сморкающегося с помощью двух пальцев; канцелярского, распространяющего такой запах, что "комната присутствия превратилась было на время в питейный дом" и т. д.
Подумать только: ещё несколько лет назад Гоголь всерьёз верил, что на этом поприще — поприще российской Фемиды — он сможет "быть благодеянием", стать "истинно полезен для человечества".
Ядро второго сборника "Арабески" (как и "Миргород", он вышел в двух частях) составляли повести из петербургской жизни. Их — три: "Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Портрет".
Потом к ним прибавились ещё две повести — "Нос" и "Шинель".
Хотя "Шинель" была завершена позднее, к сороковым годам, задумал её Гоголь (как мы уже говорили) примерно в одно время с повестями из "Арабесок". Тогда же был написан и "Нос". Все пять произведений составили цикл "петербургских повестей" Гоголя.
По сравнению с "Вечерами…" и "Миргородом" они представляли собою нечто существенно новое. Первые две книги восходили ещё к старому "до-петербургскому" опыту писателя. Конечно, и петербургский опыт в них присутствовал, без чего обе книги были бы невозможны; но всё же он накладывался на старые впечатления — оттеняя их, вступая с ними во взаимодействие, углубляя и т. д. Напротив, петербургские повести обязаны новому опыту Гоголя непосредственно; в них автор подобен был путешественнику, открывающему для себя незнакомую страну.
Да и само наименование этой "страны" — Петербург — имело несколько иной объём, иной смысл, чем предыдущие: Диканька или Миргород.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: