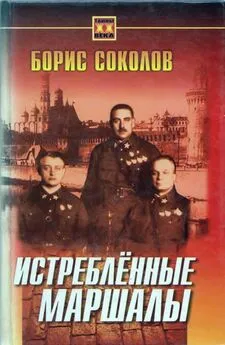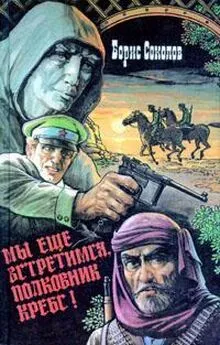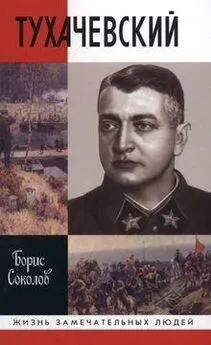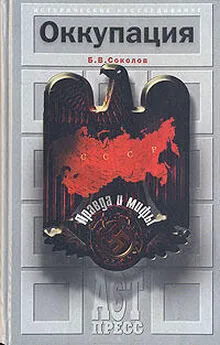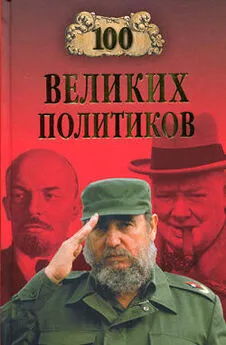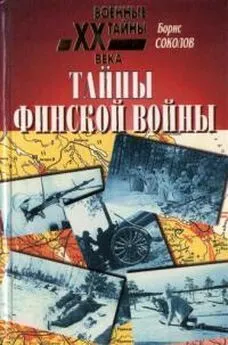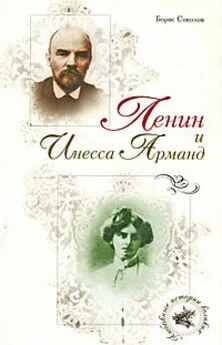Борис Соколов - Истребленные маршалы
- Название:Истребленные маршалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русич
- Год:2000
- Город:Смоленск
- ISBN:5-8138-0176-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Соколов - Истребленные маршалы краткое содержание
Книга предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся советским периодом новейшей истории
Истребленные маршалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом, после войны, Тухачевский объяснял свое поражение численным превосходством противника и невыполнением командованием Юго-Западного фронта распоряжения главкома о переброске под Варшаву 1-й Конной армии. Ну, насчет численного превосходства он, безусловно, не оригинален. Во все времена и у всех народов проигравшие старались списать неудачи на численный перевес неприятеля, даже тогда, когда такого перевеса и в помине не было. Если почитать, например, советскую историографию Великой Отечественной, то создастся стойкое впечатление, что немцы превосходили Красную Армию в людях и технике вплоть до 43-го года, а порой — и в 44-м и чуть ли не в 45-м. Что же касается проблемы поворота армий Юго-Западного фронта на Варшаву, то она дискутировалась в Советском Союзе с начала 20-х и вплоть до начала 90-х и, в зависимости от политической конъюнктуры, решалась то в пользу Сталина, Егорова, Ворошилова и Буденного, то в пользу Тухачевского и Реввоенсовета Западного фронта. Посмотрим, как же обстояло дело в действительности.
Михаил Николаевич настаивал: «Западный фронт насчитывал в своих рядах едва только 40 000 штыков. Зато польские силы возросли до 70 000 с лишком, по нашим разведывательным данным того времени, а на самом деле они были еще больше». И в другом месте повторил для убедительности: «По нашим подсчетам, возросший в числе противник имел… до 70 000 штыков и сабель… Силы Западного фронта не превышали 40 000 штыков и сабель». Пилсудский над этой арифметикой откровенно посмеялся: «…Самыми забавными являются явно предвзятые расчеты и итоги… показывающие соотношение сил перед началом 4 июля главной советской операции, завершившейся под Варшавой. В самом низу таблицы добавлена рубрика: запасные батальоны и эскадроны действующих полков. Для нас они показаны цифрой 27 000 штыков и 1200 сабель, готовых влиться в строй». С русской же стороны мы находим вместо штыков и сабель лишь три звездочки, не означающие никакую цифру, но зато поясняющие, что батальоны и эскадроны уже учтены в составе дивизий… Неизвестно почему в некоторых наших пехотных дивизиях каким-то чудом появилась конница в постоянно повторяющемся количестве 400 сабель, в то время как другие дивизии таким подарком облагодетельствованы не были… Такой странный расчет соотношения наших и советских сил, полный грубых ошибок, мог бы стать весьма грустным свидетельством плохой работы советских штабов в войсках, которыми командовал г-н Тухачевский, если бы не его явная агитационно-публицистическая направленность… выражающаяся в том, чтобы в окончательном итоге, в сумме, выводимой внизу колонок, тенденциозно преувеличить наши силы и, наоборот, приуменьшить свои».
Со своей стороны, польский главнокомандующий, подобно уже знакомому нам барону Будбергу, весьма критически относился к донесениям подчиненных и призывал подобный здоровый критицизм применить и к советским донесениям о численности войск: «О количественном составе своих сил можно судить на основании донесений, периодически представляемых командирами различных частей. Однако каждого, кто захочет опираться только на эти данные, я, как историк, должен предостеречь от этого опрометчивого шага. Прежде всего потому, что любое донесение, независимо от того, какая информация в нем содержится, с исторической точки зрения может считаться надежным источником лишь после критического анализа, ведь донесения пишутся для начальства, они всегда имеют цель не только отчитаться в чем-либо, но и подспудно склонить начальника к тем или иным мыслям, к тем или иным решениям в отношении пишущего это донесение. Если так происходит в армиях, имеющих глубокие традиции и давным-давно до мельчайших деталей отработанную систему подготовки кадров, то что же говорить о нашей армии, совсем недавно сформированной и, если речь идет о командирах, состоящих из людей, по сути дела, случайно собранных из самых разных армий и школ. Именно по этой причине я никогда не относился в достаточной степени серьезно к донесениям наших командиров о численном составе войск. Я всегда вносил в них одну суммарную поправку, а именно: в нашей армии очень широко распространилась система откомандирования множества людей из боевых частей в ближний или дальний тыл для выполнения работ в интересах войск или командиров и по разным хозяйственным надобностям (в Красной, а особенно позднее, Советской, Армии эта система «хозяйственного использования» солдат, в том числе для строительства генеральских дач и прополки командирских огородов, расцвела пышным цветом. — Б. С.). В донесениях же эти откомандированные никогда или почти никогда не указывались, и для начальства их считали постоянно находящимися в полках. Попустительство в этом отношении зашло у нас слишком далеко, и мне не приходит на память хотя бы один случай, когда кто-нибудь из командиров применил бы здесь строгие дисциплинарные меры. Поэтому всегда, получая донесения о численности армий, я вносил в итоговую сводку… суммарную поправку… — по крайней мере треть людей, считавшихся штыками и саблями, я не засчитывал в боевой состав…
Я вовсе не хочу сказать, что советская армия не знала подобной системы хозяйственного откомандирования штыков и сабель. Более того, я уверен, что так и было. Тем не менее… дисциплина у нашего противника была чрезвычайно жесткой, часто даже жестокой, а меры, предпринимаемые для ее поддержания, настолько суровыми, что, думаю, неприятельскому командующему не было необходимости производить такие грустные расчеты, какие делал я».
Польский «верховный вождь» полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось около 795 тысяч человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130–150 тысяч бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120–180 тысяч. Такая оценка кажется ближе к истине, чем та, что содержится в «Походе за Вислу». После варшавской катастрофы более 80 тысяч человек из состава Западного фронта попали в польский плен, а еще более 40 тысяч оказались интернированы в Восточной Пруссии. В основном это были те, кого на военном жаргоне именуют штыками и саблями — тылы-то ведь успели убежать за Западный Буг и спастись. Кроме того, многие бойцы и командиры нашли смерть в бою, а некоторой, хотя и небольшой части боевых подразделений Западного фронта удалось избежать гибели. Каким же образом взялось свыше 100 тысяч пленных и интернированных, если, по уверениям Тухачевского, его фронт располагал всего 70 000 штыков и сабель? Нет, по всей вероятности, в Варшавском сражении силы противников были равны. Не исключено даже, что Тухачевский имел небольшое численное превосходство, но оно никак не могло ему помочь. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск: сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: