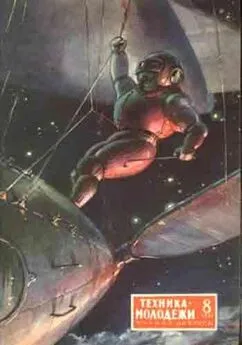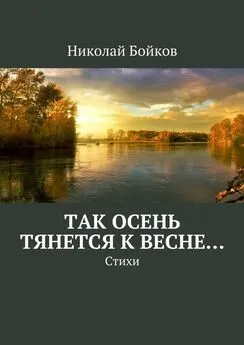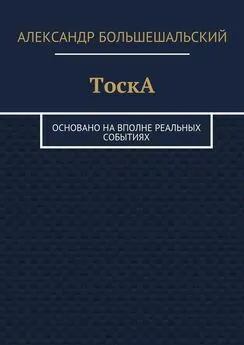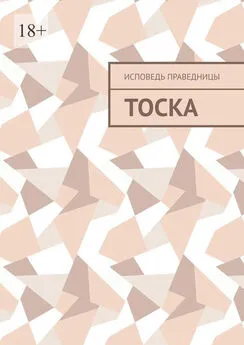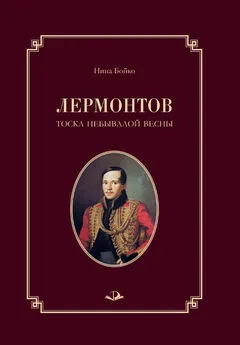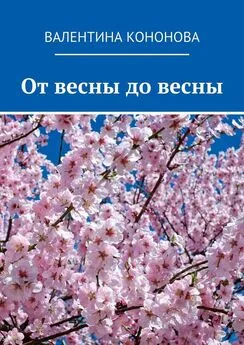Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Название:Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] краткое содержание
Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Середникове не было пьянства. В праздники, вместо кабацкой водки, пили чай с ромом, красное вино, в том числе и дорогое, привозимое из Москвы: херес и лиссабонское.
«Скажу несколько слов о нравственном состоянии жителей. На стенах в разных домах я нашел лубочные картины духовного содержания, потом портрет Рашели, карты Европейской Турции и Крыма; гравюры: Эсмеральду с козою, купающихся женщин и тому подобные соблазнительные вещи. Многие крестьяне служили прежде и служат теперь натурщиками в школе живописи и ваяния /Московское Училище живописи, ваяния и зодчества/, а потому в деревне известны и школа и ее выставки; во многих домах хранятся масляные портреты натурщиков и разные лепные фигуры. Люди богатые знакомы с театром. Меньшинство грамотно, но, несмотря на то, чувствует, что им одной грамоты мало, что им чего-то недостает; остальные неграмотны и горюют об этом» ( И. Г. Прыжов ).
Взрослые гости имения косо смотрели на то, что молодежь приняла Орлова в свой круг. Но именно Орлов привил юному Лермонтову любовь к народной поэзии. Следствием погружений в народную песенную стихию стали юношеские стихотворения Лермонтова «Атаман» и «Воля» — своеобразная стилизация разбойничьего фольклора. Другим замыслом, берущим начало в Середникове, стало знаменитое «Бородино». Здесь был создан первый вариант его — «Поле Бородина». Сама форма — рассказ солдата, — возникла как отражение подлинных бесед с рядовыми участниками великой битвы.
Возле храма, в котором служил отец Михаил, рос многовековой вяз с огромным дуплом. Лермонтов забирался в него, сидел и о чем-то думал. Природа не отпустила ему гвардейского роста, каким щеголяли все Столыпины, но подарила восприимчивую душу. Не здесь ли, в дупле, схожем с пещерами в Чембарском уезде, в которых при набеге пугачевцев прятались помещики, зародилась в нем мысль написать о пугачевском бунте? Он видел эти пещеры, знал об отрядах Пугачева, ибо крестьяне в Тарханах о том говорили и многие были свидетели. Да и не очень давно это было, в 1774 году, а бабушка Миши родилась в 1773-м. Сохранилось предание, что «под полом часовни в Тарханах господа похоронены и что всех их Пугачев перебил еще в старину». К этому добавлялись рассказы бабушки: ее близкий родственник Данила Столыпин был убит пугачевцами в Краснобродске. А бабушкин брат Афанасий рассказывал, что в версте от саратовского имения Столыпиных, в лесу, находятся «печерные норы», в которых спасались помещики. Недаром потом в романе «Вадим» Лермонтов скажет: «До сих пор в густых лесах Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губерний любопытный может видеть пещеры, подземные ходы, изрытые нашими предками».
Беспечная молодежь вовсе не жаждала разделять его мысли, да и он не стремился выделиться. Вместе со всеми заслушивался игрой Екатерины Аркадьевны на рояле, сам немного играл, но чаще брал скрипку, пытаясь передать звуками то неясное, что бродило в душе. Его занимала Варенька Лопухина. «Друг мой!» –– сказала она; и, оставаясь с собой наедине, он не мог удержаться, чтобы не повторять: «Друг мой!»
Он еще не догадывался, что «против его сердца билось другое, нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви», что душа Вареньки «создана по образцу его души, что они уже знакомые прежде рождения своего, читают свою учесть в голосе друг друга, в глазах, в улыбке... и не могут обмануться».
Так о любви не писал ни один из предшественников Лермонтова.
IX
К сентябрю все вернулись в Москву.
В пятом классе у Миши вел математику профессор Дмитрий Матвеевич Перевощиков, крупный ученый, автор многочисленных работ по математике и астрономии. «Он имел обыкновение каждый год, при начале курса в 5-м классе, в первые же уроки экзаменовать вновь поступивших учеников и отбирать овец от козлищ. Из всего класса обыкновенно весьма немногие попадали в число избранных, т.е. таких, которые признавались достаточно подготовленными и способными к продолжению курса математики в высших двух классах; этими избранными профессор только и занимался» ( Д. А. Милютин ) .
Лермонтов входил в числе избранных. Он любил математику. Любил математические игры и удивлял знакомых знанием математических фокусов. Элементы высшей математики, начала дифференциального и интегрального исчисления занимали его всю жизнь. В своих воспоминаниях родственник Лермонтова И. А. Арсеньев говорит: «В характере Лермонтова была еще черта далеко не привлекательная — он был завистлив». Кому же завидовать мог этот многосторонне одаренный мальчик?..
Однажды, ночуя у Лопухиных, Миша до полуночи бился над решением сложной математической задачи, и, утомленный, заснул над ней. Приснился ему человек, помогший решить ее. Лермонтов проснулся, изложил решение на грифельной доске, и, под свежим впечатлением, нарисовал на тонированной стене комнаты портрет того человека. Утром все рассказал Алеше Лопухину. Лицо изображенного было настолько характерным, что Лопухин захотел его сохранить, вызвал мастера –– сделать рамку вокруг рисунка и застеклить. Мастер оказался неумелым, штукатурка с рисунком отпала. Лермонтов успокоил друга: «Ничего, мне эта рожа так в голову врезалась, что я тебе намалюю ее на полотне», –– что и выполнил. Сходство вышло поразительное. С тех пор этот портрет постоянно висел в кабинете Алексея Лопухина.
Человек, приснившийся Мише, являл собой герцога Лерму в средневековой испанской одежде, с кружевным воротником, с испанской бородкой, с орденом Золотого руна. Изучая историю, Миша наткнулся на имя Лерма, а Лермонтовы в то время писались как Лермантовы. Может быть, герцог Лерма –– из ветви Лермонтов? С тех пор он стал подписываться M. Lerma.
Художник Солоницкий много способствовал развитию в Мише таланта живописца и графика, а инспектор пансиона Михаил Григорьевич Павлов всерьез заинтересовался художественными успехами Лермонтова, храня подаренные им картины. (До нашего времени дошла лишь часть картин и рисунков Лермонтова. 13 картин, написанных маслом, 44 акварели, 4 литографии и около 400 рисунков, включая рисунки на автографах).
«В то время в Москве была заметна особенная жизнь и деятельность литературная. М.Г. Павлов, инспектор благородного университетского пансиона, издавал журнал «Атеней»; С. Е. Раич, преподаватель русской словесности, издавал «Галатею»; пример наставников, искренне любивших науку и литературу, действовал на воспитанников — что очень естественно по врожденной детям и юношам склонности подражать взрослым. Воспитанники благородного пансиона также издавали журналы, разумеется, для своего круга, и рукописные» ( В. С. Межевич ).
Василий Межевич был ровесником Лермонтова, но учился в университете; с пансионскими журналами был знаком потому, что имел в пансионе знакомых. «Из этих-то детских журналов, благородных забав в часы отдохновения, узнал я в первый раз имя Лермонтова, которое случалось мне встречать под стихотворениями, запечатленными живым поэтическим чувством и нередко зрелостию мысли не по летам. Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова, но кажется, что ему принадлежат читанные мною /переводы/ из поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук» и переводы некоторых мелодий того же поэта (из них я очень помню одну, под названием «Выстрел»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]](/books/1074286/nina-bojko-toska-nebyvaloj-vesny-m-yu-lermontov.webp)