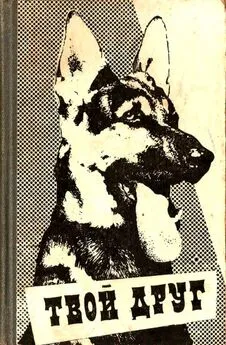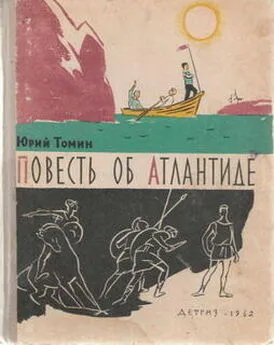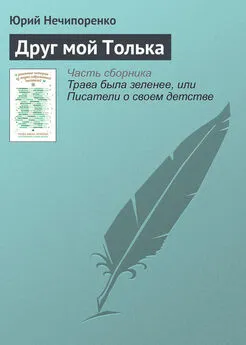Юрий Лощиц - Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева
- Название:Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Церковное искусство. Реставрация памятников истории и культуры Т. 2. М.: Новый Ключ, 2011.
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лощиц - Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева краткое содержание
Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как ни ряди, сам текст выводит к имени «В.Н.Сергеев».
Каждый посетитель каждого музея знает: экскурсия может длиться десять, ну, двадцать минут, ну, от силы полчаса. При самом «артистическом» исполнении своего многократно, изо дня в день, из месяца в месяц произносимого рассказа экскурсовод, который по роду занятий обязан быть отчасти и артистом, всё-таки не может, да и не обязан дольше определённого срока удерживать внимание быстро устающих зрителей-слушателей.
Да, Валерий Сергеев, как и другие рублёвцы, его товарищи и коллеги, неоднократно в те десятилетия выступал в роли экскурсовода. Но в данном-то случае вовсе не об экскурсиях шла речь. А о полновесных лекционных часах. На знаменитые своим монументализмом лекционные циклы Сергеева по изобразительному искусству Древней Руси, (по главным её иконописным школам), действительно, люди приходили толпами.
Не припомню, но, возможно, некоторые из его воскресных лекций начинались в «настоятельских покоях», а продолжались уже в другом экспозиционном помещении, которое музейщики, по прежней его функции, называли между собой «гаражом». И тогда можно было наблюдать, как эти толпы поспешают за ним от здания к зданию «непрерывным потоком». Мне же запомнилось, что Сергеевские лекции «от а до я» звучали именно в «гараже», в просторном зале, за большим, чуть не в полстены, окном которого открывался прекрасный вид на Спасский собор.
Теперь «гаража» нет. Его снесли, поскольку однажды высоких кураторов музея осенила мысль, что эта техническая постройка советского времени не вписывается в исторический ансамбль монастыря. Жалко лишь, что перед сносом они не позаботились о строительстве другого экспозиционного помещения, ещё более просторного. Такого, чтобы в нём можно было разместить старых «жильцов» – недавно отреставрированные иконы XVI-XVII веков, великолепные копии ферапонтовских фресок Дионисия работы Гусева – и добавлять сюда новые и новые музейные приобретения.
Но вернусь в «гараж»… Дело ближе к вечеру. В зале не слышно ни машин с площади Прямикова, ни поездов, идущих через Яузу то ли к Курскому вокзалу, то ли от него. Народ прибывает и прибывает с укутанного сугробами раздольного двора. Московские зимы всё ещё умеют в таких вот местах как бы переносить нас в стародавние времена, родные иконам и фрескам. На щеках слушателей – свежесть и румянец от бодрящего морозца. В улыбках – радость узнавания друзей, знакомых.
Все взволнованы предстоящим слушанием. Сегодня Сергеев открывает для собравшихся «Тверскую школу». «Открывает» – не преувеличение. Речь предстоит, как он пообещал накануне, едва ли не о главном направлении работы музея за целое десятилетие. Иконы «Тверского письма» – подлинное украшение музейной коллекции. Но это «письмо», почти неведомое миру. «Рублёвцы» – и Валерий Сергеев в числе трёх авторов – подготовили первый в стране полновесный монографический альбом о своеобычнейшем иконописном вкладе «Твери старой, Твери богатой» в сокровищницу древнерусского искусства.
Пока народ занимает свободные стулья и скамьи, пока приносят откуда-то из подсобок добавочные лавки, Сергеев, чуть покашливая, щурясь, перепроверяет на лекторском своём столике последовательность слайдов, которые понадобятся для демонстрации на большом экране в затенённом углу зала. Передаёт комплект слайдов ассистенту, трогает стопу книг, необходимых для цитирования. Проделывает всё это так, будто в зале никого пока нет. Понимаю: ему нужно собраться, предельно сосредоточиться для трёхчасового монолога.
Мы ждём с нетерпением ещё и потому, что уже слышали от него вдохновенные лекции о Новгородской, Московской школах, о выдающихся памятниках изографов Псковской земли. В эти часы я с удивлением открывал для себя какие-то новые свойства души и дарований Валерия Сергеева. Одно дело – ты стоишь с ним в зале музея вдвоём, и он говорит о том или ином из любимых изображений почти тихо, почти по-домашнему, с мягкой доверительностью. И другое, – когда он остаётся один на один с переполненным залом, без микрофона.
Хорошо ещё – в «гараже» неплохая акустика, и народ сидит не шелохнувшись. Но с первых же его слов заметно: у него теперь другой совсем голос: твёрдый, неломкий, напряжённый до звона, как тетива. Каждое слово выверено, весомо, как самоцвет, вкладываемый в творимую на слуху и на виду у всех мозаику.
Ещё и потому он, догадываюсь, обходится без микрофона, чтобы руки были свободны. Он не выбрасывает их вовне. Он руками и пальцами больше собирает, притягивает к себе, удерживает, показывая тем самым, с каким напряжением Спаситель или апостол Павел истово и властно держат в руках Книгу, архангел Михаил – сферу, святитель Николай – храм, а мученица Параскева – крест. Руками своими подсказывает, как нужно «читать» жесты святых, столь красноречивые на иконе.
И «Великая Тверь» в эти часы необыкновенно для всех расцветает. Соперница Москвы в XIII– XIV веках, давшая Руси великих святых, мучеников за веру, волевых державоустроителей, противоборцев ордынскому игу, писателя-путешественника Афанасия с его мировым кругозором, Тверь в иконах своих собрала, по слову Сергеева, высокий, без признаков периферийности, стиль, намагниченный на византийскую величавую строгость, на державный монументализм.
Да, художественное наследие средневековой Твери сохранилось для нас с большими утратами. Да, оно по объему уцелевшего, разысканного уступает и Новгороду, и тому же Пскову, не говоря о «Московской школе». Но по мощи своего вклада Тверь, убеждает он, представляя залу за иконой икону, никак не вторична. Она – равная среди равных. Её древние, по преимуществу безымянные мастера пережили великие творческие озарения. Они теперь очевидны и для нас…
Где ты, Сергеев, думаю я, слушая его, научился так «держать» свою разновозрастную, разноопытную аудиторию?.. Тебя ведь, затаив дыхание, слушают сейчас профессор Суриковского института, кинорежиссёр-документалист, художники, студенты-филологи, старая женщина, представительница знаменитого княжеского рода, начинающие искусствоведы, приехавшие к тебе на консультации из того же Новгорода, модный критик либерального толка, очень, видимо, озадаченный тем, что Москва слушает не одни лишь турниры пиитов и бардов в Лужниках. Внимают тебе и сотрудницы Института русского языка, пришедшие однажды с предложением записывать тебя на магнитофон, поскольку ты, по их убеждению, – великолепный носитель традиционной чисто московской речи… Ну, и как прикажешь не гордиться тобой, друг мой Сергеев?
Так и не знаю, записали тебя эти сотрудницы на свои профессиональные бабины или нет? Но в зале, сколько помню, никто не записывал. Не водилось ещё тогда малогабаритной высокочувствительной и общедоступной техники для аудиозаписи. А вне зала, к примеру, в студийной тесной комнатке, и ты вряд ли бы смог говорить с такой самоотдачей, с такой исповедальной прямотой убеждённого православного исследователя и писателя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


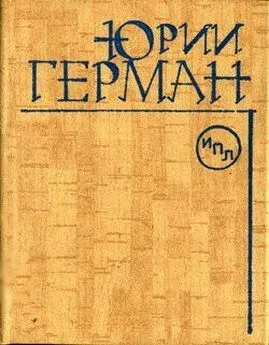
![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/409230/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3.webp)