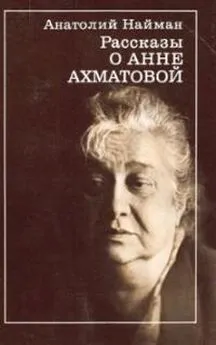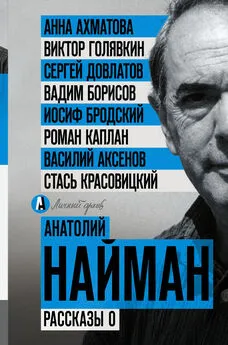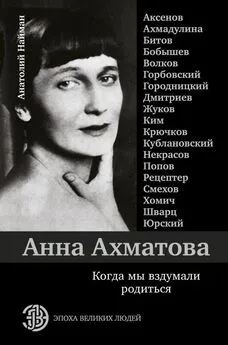Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой
- Название:Рассказы о Анне Ахматовой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- ISBN:5-280-00878-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Найман - Рассказы о Анне Ахматовой краткое содержание
Рассказы о Анне Ахматовой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любовь Давыдовна жила в Сокольниках, на Короленко, в доме без лифта: раз поднявшись, Ахматова на весь срок гостевания оставалась заточенной в квартире на высоком четвертом этаже. В ее комнате было широкое и высокое, почти во всю стену, окно, красивая старая мебель, большое овальное зеркало, очаровательная картинка маслом: народ, в сумерках расходящийся из церкви с зажженными свечками и вербой в руках. Дом окружали тополя, доросшие до крыши, весной и летом пышнозеленые. Двухэтажный домик, в котором жила Мария Сергеевна, и вовсе утопал в зелени: это был один из десятка совершенно тождественных коттеджей, построенных пленными немцами на углу Беговой и Хорошевки, — писательский поселок, загород в городе. Деревья, кусты, лужайки, беседки; деревянная лестница на второй этаж; одна комната очень светлая, другая очень темная. На Короленко в разговоре между гостьей и хозяйкой был определенный уклон к упоминанию имен Кеннеди, Мендес–Франса, сэра Исайи Берлина, баронессы Будберг, «акулы капитализма» Гринберга… На Беговой — Суркова, Маршака, Гудзия, Фурцевой, убийцы из Мосгаза Ионисяна.., И там и там Ахматова вела себя непринужденно, была дома. Из глубокого кресла, стоящего возле старинного бюро красного дерева, смотрит на сокольнический тополиный пух, летающий за окном, и говорит: «Я чувствую, как уютно заболеваю», Садится против зеркала, подносит к волосам гребень и кричит через дверь: «Маруся, он надвигается! (Он — ученый–физик, оставивший свои стихи на отзыв; хозяйка торопливо читает их в соседней комнате.) Говорите скорей: чувство природы есть? Слова стоят на своих местах?»
Это была Москва. Москва делала вид, что в ней каждую минуту что–то происходит, поощряла принимать участие в происходящем, быть кем–то, но напоминала, что это ты в ней кто–то, в е е жизни участвуешь. Ахматова называла ее Москва–матушка — с отзвуком когдатошнего петербургского высокомерия, не только, впрочем, не посягавшего на теперешнее положение вещей, но придававшего этому положению еще основательности чуть подобострастным напоминанием о себе. Хотя ленинградцы при всякой возможности подчеркивали свою не суетность, аристократизм и то, что живут «торжественно и трудно», они жили обыкновенно, разве что угрюмей и бездеятельней, чем в столице. «Чего вы хотите от этого города? — говорила Ахматова, когда сердилась на Ленинград. — Он кончился, когда перестал быть резиденцией правительства; теперь, как известно, это крупный населенный пункт». (Так, в частности, назывался Ленинград в военных сводках Информбюро.) Однако что–то отделяло ленинградцев в Москве от других и объединяло их, чуждых идее землячества, но ощущавших как бы принадлежность к недавно распущенному ордену не ордену, клубу не клубу, туманный устав и поименная иерархия которого продолжают передаваться через флюиды климата, тени зданий, лиц. Ленинградцы, видевшиеся с Ахматовой в Ленинграде, виделись с ней в Москве на этом дополнительном основании — ведь субординационная лестница, которая отдаляла юного послушника от магистра, также и связывала их.
Среди заметок по поводу «Египетских ночей» Ахматова сделала такую запись: «Ведь мальчишки, альбомы, вопросы о новых произведениях — это и есть слава. {Это и больше ничего. Примечание для себя.)». Альбомы вышли из моды, вопросы ставились в юбилейные дни корреспондентами газет, а не как Чарскому — «первым встречным», и без «мальчишек» запись выглядела бы банальным примечанием к Пушкину. «Мальчишки» же (не в пушкинском употреблении этого слова: ребенок, декламирующий стихи, — а в ахматовском: молодежь, которая всегда ведает стихами) придают ей характер дневниковый. Мальчишками она могла назвать за глаза, снисходительно–благодушным тоном старой дамы, семнадцатилетнего студента, прорвавшегося к ее больничной койке с вопросом, кто выше поэт, Мандельштам или Цветаева; и двадцатипятилетнего «главу семьи», зарабатывающего на хлеб, вино и китайский плащ «Дружба» более или менее тягостным времяпрепровождением в чертежном бюро или геологической экспедиции. К последним относились и мы четверо: Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, я.
Бобышев и Рейн в 1953 году, то есть через несколько месяцев после смерти Сталина, не зная до того друг друга, поступили в Ленинградский технологический институт и оказались на одном факультете. Оба всерьез писали стихи, ощущали и сознавали себя поэтами, каждый день жизни рассматривали как день поэтической судьбы и буду щее русской поэзии — как от них зависящее, ими определяемое. Тогда же в тот же институт поступил я, но сошелся с ними только через год. Еще года через три, когда мы уже прочно дружили и в представлении посторонних, а поэтому — вынужденно — и в своем собственном составляли литературную группу, к нам присоединился Бродский, он был немного моложе нас. Как все в молодости, мы читали друг другу стихи, встречаясь на переменах я когда пропускали лекции. В весенний солнечный вечер, когда я и Бобышев впервые заговорили друг с другом, мы прошли пешком по Загородному, Владимирскому, Литейному, через Неву, по Лесному, до моего дома недалеко от Ланской, беспрерывно читая стихи, и еще час топтались у ворот, дочитывая «Февраль» Багрицкого и на выбор из «Орды» и «Браги» Тихонова. В другой раз Бродский, узнав у моих домашних по телефону, что я стою в очереди за билетом в железнодорожных кассах, помещавшихся тогда в здании думы, приехал туда и прокричал–пропел «Большую элегию Джону Донну», только что написанную: публика была в шоке.
Как группу воспринимала нас и Ахматова, говорила мне: «Вам четверым нужна еще поэтесса. Возьмите Горбаневскую». Мне это казалось как раз ненужным, мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не находились в оппозиции к другим группам и если чему себя противопоставляли, то лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать официальной. Ахматова однажды назвала нас аввакумовцами — за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союэа писателей. Напечататься мы в самом деле хотели, но, во–первых, не во что бы то ни стало, а во–вторых, кроме чуть не ежедневного чтения стихов друг другу, мы получали частые приглашения «почитать стихи» в чей–то дом, в разнообразные лито (литературные объединения), на вечера поэзии. Один раз я выступал в Доме архитектора вместе с клоуном Енгибаровым и укротителем удавов Исаакяном, он с акцентом говорил: «Советская школа дрессуры смотрит на дрессируемого, как следователь на обвиняемого, тогда как западная школа дрессуры доказывает ему, что человек тоже зверь, только сильнее, то есть, по–простому, бьет»; и еще: «Питоны как живородящи, так и яйцекладущи». На этом фоне я читал стихи о том, что, погружаясь в сон, мы отстаем на треть от суток и от времени вообще, мне аплодировали, но удивленно, как если бы мне удалась только первая часть номера, а вторая — скажем, массовый гипноз — сорвалась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: